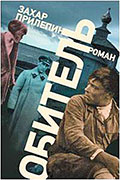
А ведь как-то живут, борются…
Всё-таки жизнь – это удивительная загадка природы.
* * *
Если вы почему-либо не любите Захара Прилепина, вам придётся утешить себя тем, что литературный дар даётся людям не в награду за прочие их достоинства, а по непонятным причинам. Прозаики и поэты – обычно неприятные люди, нередко просто чудовища, иногда глупцы, но кажутся нам молодцами: ну не мог же плохой человек написать всё это!.. А он мог.
Если же вы, напротив, любите Захара Прилепина и делаете это всем сердцем, то вам придётся набрать в грудь побольше воздуху, чтобы в вашем сердце образовалось ещё чуточку места. Потому что он написал весьма серьёзную книгу. Уже не из тех, с которыми «попадают в историю русской литературы» (этого-то добра у нас – девать некуда). А как бы из тех, с которыми в ней остаются…
Роман называется «Обитель».
Обитель – это Соловецкий лагерь особого назначения, бывший прежде монастырём и всегда, во все времена, – тюрьмой. Действие происходит в середине 20-х годов. Читать интересно. Думать о прочитанном сложно. Впрочем, «интересно» – это я неточно сказал. Я когда сам читал, почему-то всё время мёрз. По улице ходил, с трудом переставляя ноги. В вагон метро входил – как в барак, глазом опытного лагерника примечая, где местечко потише, чтобы потихоньку притулиться и терпеть, терпеть…
Сконструирован роман просто. Одна сюжетная линия. Около десятка основных персонажей собраны вокруг одного главного. Каждый в той или иной мере «выразитель идеи». Но только поведёшься на эту идею, только соберёшься ухватить за хвост «смысл», как характер персонажа – раз – меняется под влиянием изменившихся обстоятельств, общая картина усложняется, смысл ускользает.
Вспоминается задачка из «Занимательной математики» Перельмана: когда один и тот же предмет может отбрасывать прямоугольную, круглую и треугольную тень. Смотря с какой стороны его осветить. И тут же – пресловутая платоновская «пещера»: мы, дескать, не видим того, что есть на самом деле, – видим только зыбкие тени на стене пещеры, а тень не равна тому, что её отбрасывает… Здесь в роли «платоновских идей» – Соловецкий лагерь, революция, Россия, вера, страдание, человек.
Один мой знакомый (кстати, однокашник Прилепина по университету) однажды сказал: «Настоящий русский роман – это где герои постоянно говорят – и говорят только о самом главном». Прилепин написал роман – ну точно по его рецепту.
Его персонажи постоянно говорят. И в разговорах с лёгкостью охотно сбиваются на самое главное. И это не раздражает. Не выглядит комично и нарочито. Мощный, прямо-таки неожиданный, какой-то лев-толстовский по силе изобразительный талант автора с лихвой, с запасом крест-накрест перекрывает условности композиционной конструкции.
Прилепин заставляет вспомнить, в чём заключается мастерство художника слова. Это не когда приятно сделали тебе. Это когда тебя заставили поверить. Бах – и ты уже на полу лежишь. А как падал – не помнишь. Вот это и называется «художественная убедительность».
У сегодняшней публики в моде изящные легковесы, которые танцуют вокруг читателя на тонких ножках, осыпая его частыми, как клевки птицы, ударчиками, – зарабатывают очки. Таковы Иличевский, Марина Степнова. «Больше, больше метафор на страницу! Пилите, Шура, пилите!..»
То ли бокс, то ли муравьиное обнюхивание.
А Прилепин – тот садит с дальней дистанции. Выцеливает. Бьёт редко, но с такой силой, что хочется прилечь, – и чтобы больше не трогали…
Иногда кажется, что техника его слишком однообразна. Например, иногда в тексте не хватает автора, его объективного стороннего взгляда, «отъезда камеры». Вся нагрузка ложится на плечи главного персонажа: всё он должен успевать делать – и картинами природы любоваться, и переживания переживать, и философские обобщения обобщать, и сюжет двигать. Но потом понимаешь – автор был бы в этом тексте недостоверен. Ну, грубо говоря, он что – сидел, автор? А его герой – да. И потом, в полифоническом романе (а это именно попытка полифонического романа) автора вообще должно быть как можно меньше.
* * *
В книге намечено несколько целей, несколько вопросов, на которые ожидаешь где-то там, ближе к концу, найти ответ. Например: возможно ли очищение страданием, когда это страдание запредельно, когда оно убивает? Притом что человека чаще всего легче именно убить, чем очистить…
А если так, то нужно ли оно вообще – очищение?
Вот консервативный либерал Василий Петрович говорит, что революция началась с того, что русские люди поколебались в вере, а кризис Церкви начался, когда здесь же, на Соловках, закидали камнями восставших против Никоновой реформы монахов. Теперь пришли времена нового подвижничества, отсюда же Русская церковь начнёт и своё возрождение…
Завершается эта тема страшной сценой коллективной исповеди в штрафной роте: «Я пробовал человечину!», «Я изнасиловал сестру!» – воют в смертном ужасе жертвы тоталитаризма – и той же ночью, пытаясь согреться, задавливают насмерть исповедавшего их священника.
Штрафная рота размещается в церкви. Параша – в алтаре. Очищайтесь…
Другой вопрос – в чём загадка главного героя, Артёма? В чём причина его живучести, его трудного лагерного «везения»? То ли он одержим бесом, и этот бес его «выдерживает», чтобы дать пострадать побольше? Чтобы страданием «очистить» Артёма – снять с него кожуру, ободрать до остова и показать, каков он изнутри, этот весёлый обаятельный человек – человек без страха Божия и любви…
А зачем?
А зачем роман называется не аббревиатурой СЛОН, например, а церковным словом «обитель»?
Вот, кстати, и разговор о красоте слова:
«– С батюшкой не нужно искать особых слов. Которые на сердце лежат – самые верхние, – их и бери. Особые слова – часто от лукавого.
– А как же стихи? Стихи – это всегда особые слова.
– Думаешь, милый? А я думаю, что лучшие стихи – это как раз с верха сердца взятые. А вот когда особые слова выбираются, то и стихи напрасные…»
(Про бокс в романе тоже есть, но не будем.)
А вот кусочек нынешней неолиберальной утопии шлёт привет из соловецкого прошлого: «А как славно было бы, – по-детски размечтался Артём, – когда бы всякий был один – и отвечал только за себя бы. Так и войны бы никогда не случилось, потому что большая драка возможна, только когда собираются огромные озлобленные толпы…»
(Постепенно к этому Артём и приходит – когда в камере, где кроме него ещё десять человек, ему приходится общаться с крысой от одиночества.)
А вот ещё одна утопия, противоположная: «Россия нуждается в аскезе, а не в разврате, и вы это даёте», – говорит священник чекисту.
А вот заключённый, не ведавший ни голода, ни холода, ни карцера, ни тяжёлой работы, ни конвоя (научный работник, которому кажется, что он «парит» – летает как птица), с ненавистью шепчет в лицо приспособившемуся конформистскому «быдлу» Артёму (как раз всё это испробовавшему): «Собачья похлёбка! Каменные мешки! Они стреляют в нас! Они сажают нас в ледяные карцеры!»
Он обещает поведать об этом миру, и, поскольку переживает в романе всех, видимо, ему это удаётся.
Главная особенность свидетельств об ужасах каторги (как и ужасах войны) в том, что в качестве очевидцев и участников о них больше всех рассказывают не те, кто их больше всех пережил, а те, кто их сильнее всего боялся. Ну вроде как и «за свободу» борются у нас не те, у кого её нет, а ровно наоборот – те, кому её девать некуда. Можно сказать, «чем больше имеешь, тем больше хочется», а можно задуматься: да то ли они делают, что говорят? И говорят – правду ли?
* * *
Роман на «лагерную» тему на первый взгляд – сомнительный ход. Во-первых, всем это надоело. Во-вторых, ну что он, в самом деле, скажет после Лескова и Чехова, после Достоевского и Шаламова… Уж тема тюрьмы и каторги в русской литературе так проработана!..
Ан нет, не так уж и проработана. Всё больше очерки, мучительная правдивость – «физиологизм» которых не отпускает душу пофилософствовать. А в романе Прилепина – хоть и физиологизма достаточно («Ам-ам кулешика!» – впечатлительным будет сниться), но всё-таки это не очерковый, не настоящий физиологизм, который парализует сознание: «Я просто не имею права судить об этом». Тут размышляй себе спокойно да размышляй.
Вот, оказывается, для чего нужна художественная литература.

