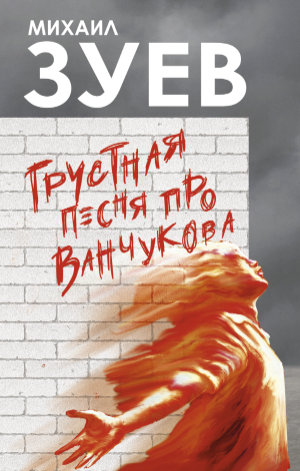
…Романы в этом обзоре – о маленьких людях, занимающих важное место в жизни, и значащих порой больше, чем все главные герои вместе взятые. Ведь они, как всегда, «оттеняют», живут «на контрасте», «сквозь призму», «в контексте», а на самом деле – олицетворяя эпоху и создавая ее портрет. Пускай даже коллективный, массовый, но именно в нем узнаваемы индивидуальные черты времени.
Например «Грустная песня про Ванчукова» Михаила Зуева – семейная сага, охватывающая период от «большого террора» и «оттепели» до «перестройки» и «лихих 90-х», география которой раскинулась от Москвы до Сибири и от Донбасса до Казахстана. На самом же деле это история жизни одного-единственного талантливого человека, рожденного в начале шестидесятых, росшего в семидесятых, взрослевшего в восьмидесятых и принявшего на себя огромную ответственность в девяностых. Московский врач, история которого рассказана как раз в контексте двух поколений его семьи. Рассказана неторопливо, подробно – опять-таки, сквозь призму времени, через отношения главного героя с многими десятками героев второго плана. Которых никак не получается назвать второстепенными, поскольку они были главными в свое время, такими и остались в памяти. Ведь жить, работать и выживать им приходилось в труднейшие времена – военные, послевоенные, непростые даже в мирную эпоху. «Барышев знал огромный завод до самого последнего винтика, до самого потаенного закоулка. Уж кто-кто, а именно он и был отцом меткомбината. Это же он, было дело, в цеху, сделав замечание рабочему и услышав в ответ: «Гудит, как улей, родной завод, а нам – до фени, долбить тя в рот!», вломил прилюдно кулачищем размером с детскую голову в перекошенное рыло так, что только пятки кверху мелькнули! С Барышевым можно было ругаться – он был отходчив; с ним можно было спорить – он уважал оппонентов и никогда не позволял себе переходить на личности; с ним можно было травить анекдоты – он их знал вагон и маленькую тележку. Одного с ним было нельзя, никогда и ни при каких обстоятельствах: нельзя было обижать комбинат. Потому что он был отцом комбината. А какой отец позволит обидеть своего ребенка?!»
Типажи и характеры, бытовые сцены, мелочи и подробности – все в «Грустной песне про Ванчукова» захватывает и подкупает исторической правдой. При этом всегда бывает интересно, как создаются такие масштабные полотна, в которых именно «второстепенные» герои влияют на концепцию, сюжет и действие романа. Иногда это сказывается даже на выборе жанра, и в случае с эпосом Михаила Зуева его книгу можно отнести и к историческим романам, и к роману воспитания – явлении, казалось бы, уже почти невозможным в наше время. И всегда и во всем чувствуется, что это была одна семья, один род – в данном случае Ванчуковых – который воспитал героя уже нашего недавнего времени. Московского врача, живущего в перестройку и девяностые, сумевшего пробиться сквозь стену неудач и выжить в те «лихие» времена, добившись своего в жизни и профессии.
 В автобиографической трилогии «Отражения» Виктории Левиной – история страны также рассказана сквозь призму детства, юности и зрелости, прожитая героиней и заодно ее семьей параллельно с неминуемыми во все времена «перегибами» и «головокружениями» и множеством «второстепенных» героев. Послевоенное детство, звонко начавшееся в Забайкалье, где служил отец, и где «медвежатина в лопухах, испеченная на костре в саду, суп из акульих плавников, добытых на Белом море, зайчатина и кабанятина из местных лесов, филе из копченой змеи и дикие утки на вертеле – да чего только не готовилось проворными толстенькими пальчиками моего папки», плавно перенеслось на берега Днепра, в украинскую провинцию. И здесь уж – запойное чтение в детстве, не менее пьянящие воспоминание о взрослых.
В автобиографической трилогии «Отражения» Виктории Левиной – история страны также рассказана сквозь призму детства, юности и зрелости, прожитая героиней и заодно ее семьей параллельно с неминуемыми во все времена «перегибами» и «головокружениями» и множеством «второстепенных» героев. Послевоенное детство, звонко начавшееся в Забайкалье, где служил отец, и где «медвежатина в лопухах, испеченная на костре в саду, суп из акульих плавников, добытых на Белом море, зайчатина и кабанятина из местных лесов, филе из копченой змеи и дикие утки на вертеле – да чего только не готовилось проворными толстенькими пальчиками моего папки», плавно перенеслось на берега Днепра, в украинскую провинцию. И здесь уж – запойное чтение в детстве, не менее пьянящие воспоминание о взрослых.
Хороша эта трилогия еще и тем, что все в ней правда, без обиняков и цензуры. Героиня романа фиксирует семейную историю, рифмующуюся, как уже было отмечено, со всесоюзной, и живописует личный «трудный период» длинною в жизнь. Яркую, веселую, горькую. «Я видела застолья с большим количеством алкоголя с очень раннего возраста, – не скрывает она. – Гостеприимный дом моих родителей часто посещали руководители тогдашней Грузии. Иногда я наблюдала, как открывается калитка и по небольшому переулочку, ведущему к дому, неторопливо и с достоинством идут красивые грузинские мужчины в строгих черных костюмах, держа в руках плетеные корзины с кувшинами молодого пьяного вина, зеленью и барашками. «К Яну на пленэр», – так это у них называлось».
Кстати, о еде и питье в то хлебосольное время в романе немало еще и оттого, что праздника в послевоенную эпоху не то чтобы не хватало, его попросту не ощущали. Ну, или «не наедались» им, что ли. Поскольку голод, от которого до войны спасали вынесенные с хлебзавода крошки, а после войны – памятливые бабушки с наволочками, полными сухарей, просто генетически не мог исчезнуть из коллективной памяти народа. Плюс, конечно, война. «Иногда к папе и маме приезжали в гости их фронтовые друзья, – вспоминает героиня. – И тогда тоже много пили, пели и вспоминали былое под громкие тосты и звон бокалов. Папа имел феноменальную память: он сыпал именами, датами, событиями, названиями населенным пунктов и городов, где шли бои. И все это сопровождалось неизменными печальными тостами, которые горчили слезой: – А помнишь, Машенька моя дорогая, как мы во время артналетов немца, тяпнув по сто грамм чистого спирта («сто грамм фронтовых»), спорили, кто кого телом своим накроет, спасет от смерти?».
 Или, скажем, «Агент влияния» Александра Айзенберга, в котором автор описывает как «трещали и рушились миры». Ведь даже если все в романе начинается с древней истории – сонмы народов, армии героев, яркая хронология державных жизней и судеб – сюжет кружит вокруг одного-единственного персонажа, пресловутого «маленького человека», агента всех времен и народов. В целом же, эта проза с «пунктирно» выстроенной графикой повествования – горсть сюжетных абзацев из официальной жизни «и эллинов, и иудеев», пересыпанная пудрой любовных отточий – отсылает к «пунктирному» же и образованию в чьей-то юности.
Или, скажем, «Агент влияния» Александра Айзенберга, в котором автор описывает как «трещали и рушились миры». Ведь даже если все в романе начинается с древней истории – сонмы народов, армии героев, яркая хронология державных жизней и судеб – сюжет кружит вокруг одного-единственного персонажа, пресловутого «маленького человека», агента всех времен и народов. В целом же, эта проза с «пунктирно» выстроенной графикой повествования – горсть сюжетных абзацев из официальной жизни «и эллинов, и иудеев», пересыпанная пудрой любовных отточий – отсылает к «пунктирному» же и образованию в чьей-то юности.
Любовных интриг в романе Айзенберга – как и заговоров, государственных тайн и измен – безусловно, хватает, причем как из «римской» жизни, так и всех последующих времен. Это, по сути, некий конспект истории «внутренней» жизни той или иной эпохи. Ветхозаветная кабала, римский синедрион, шляхетские унии. И тот самый «агент» во все времена оказывается у автора то Гайдаром Капитолия (Цезарь), то еще каким-нибудь шляхтичем, но краше всех, конечно, «древнеримские» герои. Мы узнаем, что «после защитительной речи самого Целия говорили Марк Лициний Красс и Марк Туллий Цицерон», а «нынешние консулы Гней Корнелий Лентул Марцеллин и Луций Марций Филипп недоброжелательно относятся к триумвирам». И это важно, поверьте, если уж честно погружаться в пучину страстей, как говаривали обэриуты, не доверяя, по определению, какому-нибудь Луцию Домицию Агенобарбу.
В любом случае, совершенно волшебная порой абракадабра имен, событий, сломанных копий и разбитых судеб отсылает к детальной генеалогии упомянутого Светония с его «Жизнью двенадцати цезарей»: «Причиною ненависти Суллы к Цезарю было родство последнего с Марием, ибо Марий Старший был женат на Юлии, тетке Цезаря; от этого брака родился Марий Младший, который, стало быть, был двоюродным братом Цезаря». В романе из всей этой античной роскоши соткан не менее блестящий текст, в котором вязнешь будто в пене минувших дней, словно в патоке героических будней, если можно так назвать наше доброе букинистическое прошлое.
…Многие, очень многие из нашего прошлого неожиданно встречаются на страницах этих романов, в которых история не пересказывается, а проживается. Благодаря, напомним, декорациям и задникам, а именно – второстепенным героям, которые из массовки вырастают настоящими героями своего времени. Именно таким образом книги вроде бы складывается из глав, рассказ в которых, на самом деле, посвящен главным вехам общего пути. При этом элемент личного, непредвзятого, субъективного «авторского» мнения выстраивает «альтернативную» историю «коллективной» жизни. А на самом деле – внутреннюю, частную и семейную, на которой и держится феномен «устной» памяти. Какой бы «травматической» она ни была.
Игорь Бондарь-ТЕРЕЩЕНКО
