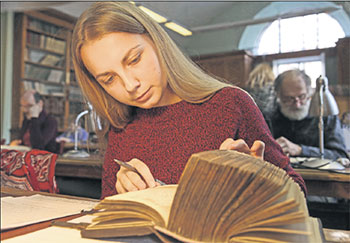В последние годы библиотечное сообщество России не раз обращалось к местным и федеральным властям с настойчивой просьбой остановить закрытие библиотек, на которые легла основная нагрузка по реализации программ и задач Года культуры и Года литературы в РФ. Рекомендации профессионалов были проигнорированы. В 2014 году, по данным Счётной палаты, граждане России лишились 340 библиотек. Данные по Году литературы, похоже, будут ещё катастрофичнее. V Всероссийский форум публичных библиотек, состоявшийся на исходе Года литературы, констатировал: за три года в стране упразднено почти 2000 общедоступных библиотек.
Процессы «реструктуризации» библиотечной сети идут полным ходом: библиотеки закрывают, сливают друг с другом, превращают в пункты выдачи литературы. С культурной карты России начинают исчезать детские библиотеки, вводящие маленького читателя в мир книг и знаний. Сокращается число библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих. Всё чаще под угрозой закрытия оказываются отраслевые библиотеки и библиотеки предприятий.
Секира «оптимизации» добралась и до федеральных библиотек. В конце января учёные РАН и педагоги высшей школы обратились к руководству Российской государственной библиотеки с протестом против последствий реформы, которая, констатировали они, может привести к утрате крупнейшей национальной библиотекой статуса института культуры мирового масштаба, хранительницы фундаментального знания.
Сегодняшней статьёй Анастасии Гачевой, филолога и библиотекаря, «ЛГ» открывает дискуссию о перспективах развития российских библиотек и их месте в культуре.
«Библиотеки важнее всего в культуре. Если есть библиотеки, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещение, возглавляются не случайными людьми, а профессионалами, культура не погибнет в такой стране». Хорошо ли помнят и помнят ли вообще эти слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва те, кто определяет ныне судьбы российской культуры?
29 февраля вступила в силу «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года». В ней есть всё: и горькие слова о девальвации ценностей, утрате нравственных ориентиров, «деформации исторической памяти» и «атомизации общества», и определение главных целей стратегии, и целых три сценария её реализации: инерционный (пессимистический), инновационный (оптимистический) и, наконец, базовый, в котором поровну и пессимизма, и оптимизма. Но вот говорящая подробность: в развёрнутом перечне направлений реализации культурной стратегии и тех субъектов культуры, которые будут эту стратегию переводить из мысли в реальность, библиотеки… отсутствуют. Как не названа среди профессиональных союзов, призванных стать партнёрами государства по осуществлению стратегических планов развития культурного сектора, и Российская библиотечная ассоциация. А ведь РБА, обладающая серьёзным российским и международным авторитетом, вот уже 20 лет прилагает все силы для развития библиотечного дела в стране, утверждая образ библиотеки как хранителя знания и наследия, проводника его в мир, средоточия нравственных смыслов, той «высшей идеи существования», без которой зыбки и уязвимы жизнь личности, развитие общества, будущее государства.
Ещё за четыре месяца до утверждения «Стратегии…» участники совещания руководителей федеральных и центральных библиотек РФ указывали, что при доработке этого документа необходимо «закрепить роль библиотек как ключевых общественных институтов в реализации общественной миссии культуры». Увы, текст документа показывает, что слова ведущих профессионалов библиотечного дела остались гласом вопиющего в пустыне.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что библиотеки в «Стратегии…» упоминаются. Но… только в той её части, где речь идёт о текущем положении дел. Причём предстают они здесь… как своего рода атавизм, отживающие учреждения, сокращение численности которых в связи с «развитием информационно-коммуникационных технологий», «распространением домашних форм проведения досуга» (!) и, конечно, пресловутой оптимизацией абсолютно логично и особого сокрушения у авторов «Стратегии…» не вызывает.
В части же, касающейся перспектив, библиотек нет и в помине. Зато появляются «многофункциональные культурно-образовательные центры». Они, надо полагать (почитаем-ка между строк), и сменят «устаревшие» библиотеки, часть которых будет оптимизирована, а часть благополучно умрёт естественной смертью.
Библиотек в стратегии развития нет. Зато есть… цирки. О перспективах развития цирков говорится воодушевлённо, подробно (не в пример подробнее, чем о музеях, концертных залах, театрах), и, похоже, в представлении авторов документа, в будущем они станут самым действенным инструментом приобщения человека к культуре. При всём уважении к цирковому искусству такая перспектива наводит на грустные размышления. Вспоминается знаменитое «Хлеба и зрелищ» античности эпохи упадка. Чем обернулось подобное увлечение зрелищами для Римской империи, нам хорошо известно из школьной программы. Очень не хочется, чтобы история повторилась…
Отсутствие библиотек в правительственном документе вызывает тем большее недоумение, что оно прямо противоречит утверждённым президентом РФ в 2014 году «Основам государственной культурной политики», где, напротив, акцентирована роль библиотек «в деле исторического и культурного просвещения и воспитания» и прямо говорится о необходимости «сохранения библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению».
Да и как, вправду, возможна без библиотек реализация целей культурной политики, громко заявленных в тексте «Стратегии…»? Можно ли без библиотеки, как площадки развития, создать полноценные условия «для реализации каждым человеком его творческого потенциала», а тем более «обеспечить гражданам доступ к знаниям, информации и культурным ценностям»? Как без библиотек, центров наследия, передавать историко-культурный опыт, традиции? И как без библиотек, собирателей «местной истории», формировать в горожанах и сельчанах «чувство сопричастности территории», сознание своей «укоренённости», «преемственности поколений», побуждать их к изучению истории семьи и рода?
Но если библиотека, полифункциональный культурный институт, обеспечивающий человеку и доступ к знанию, и прикосновение к наследию, и неограниченные возможности роста, по-прежнему занимает ключевое место в национальном строительстве, коль скоро это строительство не ограничивается действием только внешним, материальным, но есть прирастание смысла, расширение нравственного и духовного горизонта граждан России, то что же тогда стоит за этим принципиальным неупоминанием библиотеки в документе, призванном не просто направлять развитие учреждений культуры, но и подкрепляться конкретными капиталовложениями? Что стоит за отчётливо демонстрируемым нежеланием признать библиотеки реальными участниками культурного процесса завтрашнего дня? Похоже, что в ситуации кризиса наше правительство намеревается если не сразу, то в будущем сбросить тяжёлый библиотечный груз с трещащего по швам бюджетного корабля.
То, что финансирование библиотек возложено на местные бюджеты, с одной стороны, сглаживает ситуацию, а с другой – обостряет её. Есть регионы (Иркутская, Ульяновская, Самарская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ и др.), руководство которых видит в библиотеках полноценный ресурс развития края. Многие библиотеки здесь носят имена местных деятелей, собирают историческое наследие, популяризируют творчество писателей-земляков, создают литературные карты региона, являются центрами культурной жизни города, посёлка, села. Но есть и другие примеры, когда руководители края равнодушны к своим библиотекам, финансируя их по остаточному принципу, не выделяя достаточных средств на развитие. Наконец, есть бедные, кризисные регионы, где библиотеки в буквальном смысле обречены бороться за жизнь. Недавно на форуме публичных библиотек одна из его участниц взволнованно говорила о том, как ей, руководителю библиотечной системы города с разрушенной промышленностью и хроническим дефицитом бюджета, приходится отстаивать родные библиотеки, у которых местные власти норовят отнять помещения и цинично отключают в них свет и тепло.
Библиотекам приходится защищать себя не только перед учредителями, на которых, согласно законодательству, возложено право «вязать и решить», но и перед журналистами. На страницах прессы – местной и региональной – периодически появляются статьи, авторы которых с настойчивостью, достойной лучшего применения, рисуют клишированный образ библиотеки как мертвого, скучного, пустого пространства, где стоят стеллажи с пыльными книгами и сидят пожилые тётки в стоптанных тапочках. Параллельно в массовое сознание активно внедряется мысль о том, что на дворе цифровая эра и всё возможное знание давно есть в интернете, что бумажная книга доживает последние дни, а с ней, соответственно, и библиотека, которая больше никому не нужна. Попадая в головы вышестоящих лиц, управляющих культурой, этот тезис заставляет их лихорадочно думать о том, чем же наполнить «пустующие» пространства библиотек, где недвижно и бесполезно хранятся «окаменелые» знания. И в чиновничьих головах рождаются «гениальные» мысли: а давайте наполним библиотечные залы «нужными», «востребованными» вещами: поставим банкоматы и терминалы оплаты услуг, создадим в них кафе, устроим книжные магазины и юридические консультации...
Примечательно, что подобные инициативы «упаковываются» во вполне пристойную форму. Их сторонники убеждают: большое количество услуг на одной точке пространства привлечёт в библиотеку людей, а уж войдя в её стены, они попутно приобщатся и к книге. Однако этот тезис достаточно спорен: если люди на чтение не мотивированы, приход в библиотеку для оплаты услуг этим и ограничится. А вот для библиотеки перегруженность востребованными, но не библиотечными сервисами обернётся размыванием её просветительной и культуротворческой функции. Не говоря уже о том, что неизбежно нарушится целостность универсума библиотеки, где каждый сегмент, будь то пространство абонемента или читального зала, выставки или лектория, вовлечён в смысловое единство, центрированное на книге, чтении, просвещении.
За последние годы публичные библиотеки поистине прошли огонь, воду и медные трубы. Особенно лихорадило столицу России. Помню, как в своё время изумило московских библиотекарей предписание облегчить формат культурно-просветительных мероприятий, максимально очищая их от «мудрёности» и направляя в сторону массовости. Массовость, правда, трактовалась весьма специфически. Библиотекарей призывали устраивать флешмобы и фейерверки. «Фейерверки из чего? Неужели из книг?» – шутили мы, вспоминая строки из нетленной комедии Грибоедова: «Уж коли зло пресечь: забрать все книги бы, да сжечь».
Московские библиотеки пережили и введение единого комплектования, когда их лишили возможности решать, какие книги им нужны в первую очередь, и навязывание единого брендинга, разработчики которого совершенно не держали в уме, что культура – это не единообразие, а «цветущая сложность», что библиотечная сеть – не сеть банков с одним и тем же набором услуг и что каждая конкретная библиотека и ценна именно своей уникальностью, неповторимым творческим стилем, собственным дизайном, своими программами. Теперь идею единого брендинга сменила идея единого графика работы московских библиотек: до 22 часов ежедневно и с единым выходным днём в понедельник – и это (внимание!) при планируемом сокращении числа сотрудников библиотек почти на 20 процентов. Как сокращение штатов увязывается с продлением рабочего графика, трудно понять. К тому же публичные библиотеки гораздо более, чем музеи и выставочные залы, связаны с образовательным процессом, и нецелесообразно закрытие их в понедельник, когда в школах и вузах идут занятия и учащимся элементарно могут быть нужны книги.
Управленцы к этому нематериальному критерию «эффективности» библиотек нечувствительны. Но его хорошо понимают сами библиотекари, люди, находящиеся внутри профессии. Однако профессионалов ныне не спрашивают и не слушают, стараются держать на коротком поводке, относясь к их предложениям, вопросам, порой и протестам по принципу бессмертной басни: «А Васька слушает да ест». Годовой контракт руководителей учреждений культуры и возможность увольнять их без объяснения причин достаточно безобиден для «эффективного менеджера», но оказывается настоящей удавкой на шее всякого яркого руководителя, стреножа его самостоятельность, ставя перед постыдной необходимостью лавировать, быть послушным исполнителем, а не активным, наделённым творческой свободой субъектом культурного делания.
В ситуации кризиса и нехватки государственных средств библиотеки активно ориентируют на зарабатывание денег и широкое оказание платных услуг. Но следует понимать: даже если библиотека и сможет заработать какие-то средства, самоокупаемой она не сделается никогда. Настойчивое стремление вдвинуть библиотеки в сферу коммерции входит в противоречие с законодательством: закон о библиотечном деле прямо указывает, что основные виды библиотечного обслуживания должны быть бесплатны; закон предполагает открытый и свободный доступ к информационным ресурсам библиотеки, принципиальное равенство возможностей всех посетителей и читателей, вне зависимости от их платёжеспособности. Не говоря уже о том, что коммерциализация разрушает самый образ библиотеки – как общедоступной площадки развития, самообразования, творчества, противоречит духу и традициям просветительного и культурного делания, ориентированного на добровольность, на бескорыстие, на служение.
Лихорадит в последние годы не только муниципальные, но и федеральные библиотеки. В Российской государственной библиотеке стыдливо убирают с мраморной лестницы карточные каталоги (это, мол, каменный век!) и мечтают о комфортных пространствах, забывая, что атмосферу национальной библиотеки делают не диванчики и фонтанчики, не компьютеры и не стойки электронного каталога, а книги и картотеки, несущие на себе память времени и истории, специализированные отделы с их выставками и раритетами. И конечно, библиотекари и библиографы. Каталогизация и библиография, по словам «идеального библиотекаря» Н.Ф. Фёдорова, суть «ключи знания». Без них библиотека нежизнеспособна и действительно превращается в пыльный склад. А ещё в библиотеке есть своя наука: история книги, социология чтения… Увы, в результате «оптимизации» профессиональные кадры РГБ сильно потрёпаны, а из структуры библиотеки исчез ряд специализированных отделов, её становой хребет – НИО книги и чтения, НИО Информкультура, Военно-исторический отдел, Отдел русского зарубежья… Научный комплекс редуцирован до предела. Для библиотеки, являющейся главным центром национальной книжной культуры, это удар ниже пояса.
На такого индивида и ориентируется та модель трансформации библиотеки, которая может быть названа сервилистской. Она требует от библиотеки востребованных и актуальных услуг и полагает непременным условием её успешности создание в ней комфортной среды, где пользователю будет максимально удобно. Именно пользователю – слово «читатель» не отвечает духу динамичного и прагматичного времени. Классический стиль библиотеки видится устаревшим. Садиться за книжный стол – скучно и непривлекательно. Куда лучше развалиться на пуфике, держа в одной руке мороженое (чашечку кофе), а в другой – очередной детектив, или взобраться на книжный стеллаж, выполненный в форме амфитеатра, и ничтоже сумняшеся свесить ноги.
Правда возникает вопрос: позволяя человеку такую вольготность, не забываем ли мы, что внутренний рост – это всегда собирание, усилие личности? И что внутренняя дисциплина неразрывна с внешним порядком – по нерушимому принципу единства формы и содержания…
Когда мы идём в храм, то всё-таки помним: в шортах туда желательно не входить. На солее не плясать. Во время службы не разговаривать. Когда направляемся в государственное учреждение или на трудоустройство в частную фирму, стараемся и одеться подобающе, и держаться строго и делово. В чиновничьем кабинете мы не развалимся в кресле. Придя в Думу, не устроим в холле игру в футбол.
«В библиотеке теперь можно всё!» – звучит почти как футуристический призыв «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». Долой мёртвую тишину, скучный шелест страниц, едкую пыль стеллажей! Наполним пространство живым креативом! Чем раскованней, чем свободней – тем лучше. Чем зрелищнее – тем понятнее нечитающим массам. Всё для пользователя, всё ради пользователя. Не беда, если сбежавшиеся ради «зрелищ» откажутся взять в руки книгу. Книга – тем более бумажная – не главное.
Апофеозом идеи превратить библиотеку в пространство «тусовки» стал проект «Антибиблиотека», навязанный два года назад Московской областной научной библиотеке. Собравшимся на открытие «продвинутым» гражданам компания «Яркие люди» с помпой представила перформанс – «деконструкцию» библиотеки и попытку её новой «сборки». Говорящая деталь: часы, которые должны были запустить отсчёт новой эры, несмотря на старания сборщиков, так и не пошли… А библиотека, которую «яркие люди» решили перевести в новый, бескнижный формат, сумела отбить атаку, и «Антибиблиотеки» в ее стенах больше нет.
Библиотеки – субъекты культуры, а из этого понятия, как ни старайся, не выхолостить его корень: латинское cultio означает «возделывание» (от земледелия, окультуривающего почву земли, до литературы, возделывающей почву человеческих умов и сердец). «Возделывание» же, по самой своей сути, ориентирует на такую модель поведения, где есть свобода и творчество, но нет распущенности и того бесцельного, расслабляющего «времяпрепровождения», для которого больше подходят ночные клубы, но никак не библиотеки.
И ещё о пресловутом комфорте. Атмосферу библиотеки делает не комфорт, а содержание деятельности. Оценивать работу библиотек по их «упакованности» – то же, что встречать по одёжке Сократа (похожая тенденция несколько лет назад привела к тому, что в число неэффективных попали творческие вузы России, в том числе Литературный институт им. А.М. Горького). Не забыть бы в погоне за внешним лоском старую добрую пословицу: «Не всё то золото, что блестит».
 |
| Читатели и библиотекарь, ИТАР-ТАСС |
«Одёжка» не главное. Да и далеко не всегда в малых городах и сёлах библиотеки могут себе такую «одёжку» позволить. Но их скромность компенсируется другим. Меньше внешнего лоска, но больше подлинности и серьёзности. Больше нацеленности на самоотдачу, на помощь своим читателям, на радость общего труда. Никогда не забуду, как в городской библиотеке г. Сасово в рамках конкурса «История моей семьи в истории Сасовского края» девочка из интерната рассказывала, как пришла в приёмную семью и поняла: она хочет узнать её не только в настоящем, но и в прошедшем. Она рассказывала о новых «бабушках» и «дедушках», из чужих ставших родными, а люди сидели в зале и плакали. В этой библиотеке нет шикарного ремонта, современной мебели, компьютеров на каждом столе, но туда идут люди, идут дети и взрослые, ибо здесь царит то, что Пришвин называл «родственным вниманием» к миру и человеку. Добавлю: и к книге, в которой этот образ мира и человека запечатлён.
А вот в сервилистской модели библиотеки книга перестаёт быть самоценной, становится лишь приправой досуга. Более того, опора на лукавую динамику «спроса и предложения», абсолютизация права «пользователя» на «социальный заказ» оборачивается тенденцией к обеднению библиотечного фонда, к вымыванию из библиотеки серьёзной литературы. Всё маловостребованное, малоспрашиваемое (а это, в эпоху падения интереса к умному чтению, к серьёзному, фундаментальному знанию, и классика, и научно-популярные издания, и хорошая гуманитарная литература) подлежит остракизму и оказывается под угрозой списания. Малокультурному, ленивому, необразованному читателю проще воспринимать литературу низкого полёта и дурного пошиба. Но стоит ли наполнять ею полки государственных библиотек? И стоит ли, идя на поводу у шариковых и эллочек-людоедок, отказываться от базовой функции библиотеки – формирования культуры чтения?
Другая – творческая – модель библиотеки, за которой, на мой взгляд, лежит будущее, воспитывает не человека-потребителя, а человека-творца. Она основана на трёх базовых принципах: персонализм, личностный рост, соработничество. Эта модель предполагает принципиальное равноправие библиотекаря и читателя (в отличие от первой – сервилистской – модели, где библиотекарь – почти что официант, призванный обслуживать вкусы клиента), взаимное уважение, идущее не от вышколенности, а от внутренней человеческой приязни, потребности помочь другому и благодарности за эту добрую помощь. В ней читатели предстают как друзья библиотеки, двигатели её развития, активные участники её жизни. Библиотека гостеприимно распахивает им свои двери, даёт возможность прийти в её стены со своими идеями и проектами. И в то же время нацеливает их на развитие, необходимой основой которого является расширение знания. Она становится площадкой самообразования, где каждый человек выступает как «познающий» и «действующий». Её мероприятия имеют не развлекательный, а серьёзный формат: образовательные лекции, семинары, круглые столы, выставки, творческие вечера, научно-интеллектуальные клубы.
В цифровую эру, которую часто представляют началом смерти книги и книжной культуры, библиотеки, ставящие во главу угла личность и образование, обретают новые интеллектуальные и просветительные возможности. Ныне всё больше библиотек получают доступ к мировым электронным ресурсам, открывают у себя виртуальные читальные залы Российской государственной и Российской национальной библиотек, подключаются к Национальной электронной библиотеке, предоставляют доступ к базам данных крупнейших библиотек мира. Каждая библиотека – в городе, посёлке, селе – в цифровую эру может и должна превратиться в мощный информационный центр, стать площадкой расширения знания, самообразования, творческой, умной работы.
В этой священной работе библиотеке помогают друзья. Помогают искренне и бескорыстно. Ибо библиотека – это пространство служения. И включаясь в него, человек учится отдавать, а не брать, взаимодействовать, а не обособляться. Он по-настоящему собирает себя. В атомарном, эгоистическом мире учится «жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех».
В центре библиотеки – всегда человек. Точнее, два человека: читатель и библиотекарь. Как библиотека не жива без читателей, так не жива она и без библиотекарей. В наш прагматический век, очарованный информационными технологиями, человек кажется легко заменимым. Но это совершенно не так. Заменить можно функционера. Подвижники культуры незаменимы. Такие, как Вера Филиппова или Алёна Масловская, библиотекари Оренбуржья, по доброму зову которых российские писатели уже несколько лет присылают книги малым сельским библиотекам, приезжают в глубинку, встречаются со своими читателями…
Космическая эпопея России началась не на Байконуре. Она началась в читальном зале Библиотеки Румянцевского музея (ныне Российской государственной), когда туда в 1874 году пришёл 17-летний Константин Циолковский и там встретился с «идеальным библиотекарем» Фёдоровым. Фёдоров стал его наставником и помощником, помогая в плавании по библиотечным волнам, попутно зародив в душе юноши мечту о выходе человечества в космос. И недаром Циолковский сказал спустя годы: «Фёдорова я считаю необыкновенным человеком, а встречу с ним – счастьем. Он мне заменил университетских профессоров, с которыми я не общался».
В знаменитой Библиотеке Алвара Аалто, построенной по проекту выдающегося архитектора, высшая точка лестницы, по которой поднимается человек, совершая символическое восхождение в мир памяти, книги и знания, – это кафедра библиотекаря. Догадываетесь, почему?
От «ЛГ». Редакция не полностью разделяет точку зрения автора. Приглашаем заинтересованные стороны к продолжению разговора.