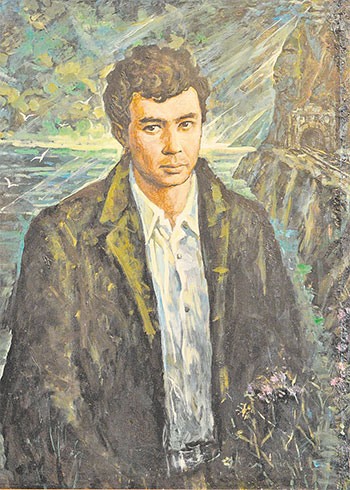
Александр Вампилов – главный драматург моего поколения. Спектакли, которые режиссёры наперегонки ринулись ставить, когда он погиб в ледяных волнах Байкала, вызывали чувство радостно-щемящего открытия. Увидев «Провинциальные анекдоты» в «Современнике», я был потрясён как зритель и, только много позже, поработав в драматургии, попытался объяснить самому себе причины того потрясения. Чем же автор «Прощания в июне» выделился тогда, в 1970-е, на фоне многих профессионалов, пишущих для театра, чем зачаровал наши сердца? Ведь его современниками были не «братья Дурненковы» (так я собирательно именую «новую драму»), а блестящие мастера: Арбузов, Розов, Рощин, Друцэ, Володин, Зорин… Чем он, начинающий, по сути, провинциальный драматург, взял всесоюзного зрителя, как в ту пору выражались?
Попытаюсь ответить. С Вампиловым на сцену вернулось чувство живой меняющейся России, как-то притуплённое рутинным валом отечественной и зарубежной классики, отголосками великой военной темы, премиальными страданиями совестливых советских пролетариев и драматургическими жертвоприношениями на алтарь дружбы народов, не спасшей СССР. Зритель подустал и от интеллигентной фронды, запрятанной чаще всего в лукавые вариации на вечные темы. Ну сколько можно было срамить безусого Нерона и убивать дракона, который давно уже сам издох? Зритель хотел настоящей, заоконной России, и он её получил от молодого драматурга из Сибири.
Скажу больше: Вампилов – очень русский драматург, и это сразу заметили, так как «русскость» в ту пору на советских подмостках уже воспринималось как мягкая экзотика.
Из пьес Вампилова на сцену шагнул новый герой, что бывает совсем не часто, ведь писатель не в состоянии его изобрести, автор может высмотреть в жизни и запечатлеть в художественном образе реальный социально-психологический типаж, ещё не замеченный или не воплощённый другими. Более того, явлением литературы такой герой становится лишь в том случае, если его главным (но не единственным) прототипом является сам автор. Такова тайная природа полнокровного образа. Когда Флобер заявлял, что «Эмма Бовари – это я!», он шутил лишь отчасти. Обычно же драматурги заимствуют типажи не у жизни, а друг у друга, как незапасливые хозяйки гусятницу. И это сразу бросается в глаза публике, но не критикам. Они как раз лучше усваивают эпигонов. Зрители сразу же узнали в вампиловских героях своих, как говорили тогда, современников, друзей-приятелей, советских интеллигентов, уставших от постылой стабильности и насильственного оптимизма. Из их душ обаятельная амбивалентность и иронический цинизм почти уже выдавили традиционную мораль и социальную ответственность, столь характерные для прежних поколений. Именно амбивалентные вампиловские герои позволили обрушить страну в 1991-м, подобно тому, как милые чеховские болтуны довели дело до революций. И я отчётливо представляю себе Зилова, который вместо сорвавшейся утиной охоты радостно бузит на баррикадах 1991-го, а потом в отчаянье пьёт горькую, когда танки в 1993 году палят по Белому дому. Кстати, способность увидеть и выловить из жизни тот человеческий тип, что станет решающим потом, за закрытым поворотом Истории, – тоже признак большого дара.
При этом персонажи Вампилова заговорили на узнаваемом языке. Большой писатель всегда приносит в стихи, в прозу, на сцену новую литературную версию современного ему родного языка, меж тем как его заурядные сверстники тащат в текст разговорный сор, стремительно устаревающий, или, сами того не замечая, заимствуют речевой канон вместе с типажами у драматургов-предшественников. И не потому, что они ленятся, а просто у них отсутствует орган, ведающий предчувствием языкового будущего, чем обладает от рождения талантливый писатель, интуитивно вылавливающий из вербального потока «золотую норму» своей эпохи. Критики обычно и этого не замечают, но зритель сразу чувствует и принимает новый канон с радостью, потому что на сцене говорят «как в жизни». На самом деле это совсем не так, но в том-то и загадка большой литературы. Потом ещё лет двадцать поздняя советская и ранняя постсоветская драматургия говорила языком Вампилова, пока вообще не разучилась говорить членораздельно.
А ещё Вампилов вернул в советскую драму острый, парадоксальный сюжет, часто восходящий к городскому анекдоту – единственному в ту пору неподцензурному жанру. Диссидентский «тамиздат» в счёт не идёт, искусство там если и ночевало, то недолго, сбежав от клопов политической нетерпимости. Да, Вампилов увлёк зрителя некой раскованностью, свойственной именно тогдашнему андеграунду, но при этом он стремился пробиться в зримую часть культурного процесса, принимаемую и понимаемую людьми. Он ушёл, уже перешагнув одной ногой черту, отделявшую безвестность от славы. Если бы не «латунские», впоследствии ставшие вампиловедами, это случилось бы раньше. Должен заметить, яркая сюжетность автора «Случая с метранпажем» нисколько не умаляла сложности конфликта и противоречивости характеров, но зато выгодно выделяла его пьесы на фоне работ тех, кто вообразил, будто провиденциальные заморочки бытия лучше выражать через аморфность, мутность и безысходность событий, разворачивающихся на сцене. Поначалу это был просто приём, к нему прибегали для наглядной экзистенциальности сочинители, сбитые с толку глубиной залегания сюжета у Чехова, а всем тогда хотелось быть Чеховым и Достоевским в одной упаковке. Но со временем не оправдавший себя приём объявили главным признаком современного художественного мышления. И драматурги, точнее люди, пытающиеся писать пьесы, стали напоминать плотников, гордящихся неумением забивать гвозди.
Всегда трудно сказать, чем обернётся ранняя смерть большого таланта. Лишит она нас, потомков, неведомых шедевров или убережёт от разочарований. Не берусь судить и я, как дальше развивался бы талант Вампилова. Похоже, потенциал у него был огромный. Но всякий художник напоминает чем-то стартовавшую ракету, по мере своего горнего полёта «отстреливающую» одну «ступень» за другой. Сколько таких «ступеней» было отпущено автору «Старшего сына»? Жестокость творческого ремесла в том, что никто не ведает этого. Например, очень яркий сибирский прозаик Вячеслав Шугаев, рассказывавший мне, как на его глазах утонул Вампилов, так и не вырос в крупного писателя, хотя имел для этого все задатки. Почему? «Горючка» кончилась? Не хватило «ступеней», которые отпускает каждому неведомый Генеральный конструктор?
Впрочем, Грибоедову была отпущена всего одна «ступень», но какая!
