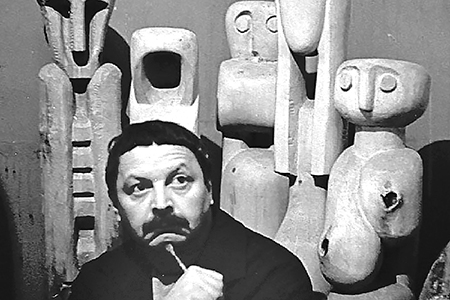Поэтические строчки Левитанского давно разошлись на цитаты, их частенько произносят как афоризм, точно не помня, кто же автор. «Жизнь моя – кинематограф, чёрно-белое кино…», «Каждый выбирает для себя…», «Что происходит на свете? – А просто зима…», «Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку, и – раз-два-три, раз-два-три...».
Юрию Давидовичу повезло жить в эпоху, когда поэт в России был «больше, чем поэт». В легендарные 1960-е, да и позднее, в СССР слово поэта воспринималось чуть ли не как откровение мессии – на поэтические вечера люди шли за истиной, за ответами на «проклятые вопросы», за утешением и нравственной поддержкой. Левитанский сторонился «стадионных» ристалищ: его голос был обращён не к толпе, он писал о том, что близко лично ему. Его друзья-единомышленники – это, прежде всего, поэты-фронтовики: Давид Самойлов, Арсений Тарковский, Владимир Соколов.
Путь в литературу самого Юрия Левитанского был и типичен для своего времени, и самобытен. Великая Отечественная война отсрочила его образование: едва окончив второй курс Института философии, литературы и истории, он вместе со своим однокурсником Семёном Гудзенко ушёл добровольцем на фронт, попав в Отдельный мотострелковый батальон особого назначения. Но, будучи в воронке военных событий (он прошёл войну до Праги, потом принимал участие в сражениях с Японией), Левитанский не мыслил себя без литературы – писал в военную прессу, ожидая перемены судьбы.
После окончания Левитанский оказался в Иркутске, в составе Восточно-Сибирского военного округа, где он оставался на службе ещё почти два года. Только после вмешательства писателя Георгия Маркова, возглавлявшего в те годы местную писательскую организацию, Левитанского наконец демобилизовали. С помощью Г. Маркова ему удалось устроиться на работу заведующим литературной частью в Иркутский театр музыкальной комедии. Возможно, это событие предопределило многое в его поэтическом пути.
В одном из интервью Левитанского спросили: «Творчество – попытка говорить на языке, могущем восходить к некой «высшей силе»?» Он признался: «Для меня таким «языком» всегда была поэзия, просто потому, что этот «род искусства» мне близок. Хотя интуитивно я ощущаю наивысшим сложнейшим, прекраснейшим языком – музыку. Выше музыки, наверное, ничего доступного человеческому творчеству нет».
Музыкальность его стихов всегда притягивала композиторов: тогда в Иркутске родилась «Песня о нашем городе» и много лет звучала по местному радио. Спустя годы, когда поэт уже прочно осел в Москве, получил диплом Литинститута (где впоследствии сам преподавал), стал членом Союза писателей СССР, широкую славу ему принёс фильм режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Песня, сочинённая Сергеем Никитиным на стихи «Диалог у новогодней ёлки», стала на долгие годы культовой и спаянной с эйфорией предчувствия счастья, наступления любимого праздника и месяца января, когда сам поэт отмечал день рождения. Сам Левитанский очень ценил творчество композитора Ларисы Критской: «Её каждая новая песня казалась мне удивительной. Зазвучавшие стихи – написанные мной давно, мне давно неинтересные – вдруг обнаруживали в себе такие качества, каких я прежде в них не замечал».
На вопрос: «Как вы относитесь к появлению песен, причём написанных и исполняемых в самых разных жанрах?» – Левитанский отвечал: «Мне кажется, всё зависит от того, владеет ли человек, пишущий музыку, секретом прочтения стихов. Мне всегда интересно – что получится, когда композитор прочтёт стихи по-своему, услышит в них свою интонацию, расставит новые «знаки препинания».
Но сам поэт сопрягал музыкальные образы с ритмом слов, ощущая метафизическую суть этих поисков. «Идея ритма давно меня занимала – начать хотя бы с того, что без ритма не существует поэзии. И в самой жизни нашей есть ритмы явные и есть трудноуловимые, однако всю человеческую жизнь можно представить себе как целую систему ритмов», – говорил Левитанский.
Или так: «Ритм – это человек. В нём, в ритме, и осуществляется и живёт поэтическая индивидуальность, неповторимость её интонации, все её модуляции и оттенки, её речь живая, и голос, и жест. Поэзии нет без ритма, как нет дерева без ствола и ветвей… Рифмы – они как цветы на дереве, и может не быть их вовсе. В ритме, как в генетическом коде, заключена программа. Без рифмы поэзия умеет вполне обходиться, а без ритма поэзии нет».
И вот рождается стихотворение, где поэт пропевает осанну: «Только ритмы, одни только ритмы, бесконечное множество ритмов, их биенье, круженье, теченье…» А в конце, говоря о смерти как состоянии в отсутствие ритма, он над ней водружает «величавые ритмы прощальной молитвы, / колокольного звона тяжёлые мерные ритмы, / звуки траурных маршей, написанных в ритме рыданья».
Удивительно, как его стихи напоены звуками и отзвуками мелодий, даже конкретных инструментов. В Госфильмофонде сохранились телесъёмки Юрия Левитанского – его творческого вечера в «Останкино», интервью с ним у него дома. В кабинете, за спиной поэта, мы видим на стене висящую скрипку. «Кто-то подарил папе этот инструмент, недорогой, фабричный. Он не умел играть, но не расставался с ним – скрипка вдохновляла его», – рассказывают дочери поэта.
А сам Юрий Давидович писал: «Скрипка висит у меня на стене, / не играет – / пыль собирает, / а рядом смычок / и – тихо, / молчок <…> А ведь если бы взять её в руки, / в добрые руки, / в нежные руки – / уж какие бы тут полились / волшебные звуки!»
Эта внутренняя потребность «творить музыку» то и дело находила выход в поэтических образах. Уже после ухода из жизни Юрия Левитанского в 1996 году его вдова Ирина Машковская нашла наброски стихотворения, которое начиналось так: «Если б я умел играть на флейте…»
По её словам, это стихотворение – вариация бесконечной мечты Левитанского и бесконечных его снов. «Ему всё время снилось, что он играет на разных музыкальных инструментах. Он часто просил купить какую-нибудь кассету с классической музыкой… Музыкальное жило в нём – знаете, это сонатное построение книг, такие вещи очень глубинные. И это стихотворение из того же ряда. А флейта была его любимым инструментом… Потом, вы знаете, он сам музыку сочинял – придумывал песенки на свои мелодии…»
Юмор был свойствен музе Левитанского в той же степени, что и лирика, и философия. Великолепные пародии на многих известных авторов – это ещё при жизни стало классикой жанра. А упомянутые ироничные «песенки» – цикл «Песни городской рекламы», где Юрий Давидович выступил как автор не только стихов, но и мелодий. «Лотерейный билет», «Кепочка» – их с удовольствием распевали барды всей страны.
Одно из самых загадочно-фантасмагоричных, напоённых аллюзиями и знаками стихотворение – «Сон у рояля».
Рояль был старый, фирмы Беккера,
и клавишей его гряда
казалась тонкой кромкой берега,
а дальше – чёрная вода.
А берег был забытым кладбищем,
как бы окраиной его,
и там была под каждым клавишем
могила звука одного.
Эмоциональный накал текста обусловлен обращением к теме войны сквозь призму музыкальных образов, войне, которая оборачивается Днём гнева и в итоге – Судным днём внутри каждого из нас.
Была безоблачной прелюдия.
Сперва трубы гремела медь.
Потом пошли греметь орудия,
пошли орудия греметь.
Потом пошли шеренги ротные,
шеренги плотные взводов,
линейки взламывая нотные,
как проволоку в пять рядов…
Искушение угадать конкретное сочинение, описанное в стихотворении, приводит к разнополярным вариантам ответа. Быть может, это та внутренняя музыка, возникавшая в воображении автора, которую он, не имея образования зафиксировать ноты, гениально вербализировал словами.
Бах, Моцарт находят место в фантазиях поэта, а «Прощальная симфония» Гайдна становится метафорой «тайной сути естества». Фигуры уходящих музыкантов, покидающих сцену в финале симфонии, мелькают и в других строках: «...скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача и последняя флейта замрёт в тишине – музыканты уходят – / Скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча».
100-летний юбилей – хороший повод взять издание с полки или открыть персональный сайт поэта в интернете. Как-то кинорежиссёр Эльдар Рязанов заявил с экрана телевизора: «Я считаю Юрия Левитанского одним из лучших поэтов страны. Есть люди, которые не читали его стихов и даже не слышали его имени. Я не виню их – мне просто больно, ведь они обокрали свою жизнь, обеднили свою душу, обузили своё существование на земле». Не совершим такой ошибки – да пребудут его стихи среди нас!
доктор искусствоведения, профессор