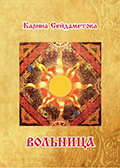
Карина Сейдаметова. «Вольница». — Москва, «Голос-Пресс», 2018.
В последние годы литература наша ушла в глубины, затаилась: она перебаливает, превозмогает три последних тяжелых русских десятилетия, пытается выжить, подспудно вынашивает и накапливает новое. Тем больше на фоне усталости и спада удивляют явления, происходящее в Самарской области — за последние тридцать лет в Самаре появилось такое количество поэтических звезд, загоревшихся на общероссийской литературной карте, какого другим областям подчас не удавалось дать и за столетие: Борис Сиротин, Михаил Анищенко, Евгений Семичев, Диана Кан... Как обозначить это явление? «Самарский поэтический взрыв»? «Пассионарный толчок»? «Особая животворящая влага Волги»? Не будем гадать — поэзия Самары требует отдельного серьезного разговора. А пока ясно одно: на самарскую землю посмотрел Бог и наградил ее поэтов яркими голосами. В волжскую волну самарской поэтической «вольницы», заслуженно завоевавшей всероссийское литературное признание, легко и естественно вливается голос молодой, но успевшей сложиться как серьезный самостоятельный поэт, Карины Сейдаметовой. Ее талантливая книга «Вольница» вышла в московском издательстве «Голос-Пресс» в 2018 году.
Со страниц книги Карины Сейдаметовой врывается к читателю ветер казачьей вольницы, раздольный голос Волги, многоголосый разлив живой народной речи и русского фольклора: «Здравствуй, вольница-иконница, //Крепь охранная страны. //Покрестясь, казак поклонится //На четыре стороны»; «Не понять мне, девице-орлице, // Счастья неприметного, простого, //Я вольна-свободна лишь влюбиться //В синь-сиянье трепетного слова»; «Окрыленная, птицею вдаль лети, //Да пребудет полет твой светел! //И попутного ветра тебе в пути, //Под крыло — морошковый ветер!» Один из самых крупных исследователей русского фольклора Ф.И. Буслаев в книге «Исторические очерки русской народной словесности» (СПб., 1861г.) писал: «Начало поэтического творчества теряется в темной, до-исторической глубине, когда созидался самый язык; и происхождение языка есть первая, самая решительная и блистательная попытка человеческого творчества. Слово не условный знак для выражения мысли, но художественный образ, вызванный живейшим ощущением, которое природа и жизнь в человеке возбудили. Творчество народной фантазии непосредственно переходит от языка к поэзии». Вот из таких «живейших ощущений» вечно творящегося языка, из половодья реальной жизни, из многоголосой многовековой народной словесной мастерской, где каждый словотворец — лесковский Левша, и растут стихи К. Сейдаметовой. В них много диалектизмов, разговорных слов, неожиданных фольклорных поэтических форм. В остальном Карина Сейдаметова проявила в поэзии поистине «казачью» самостоятельность — и если можно говорить о внимательном и вдумчивом прочтении ею лучших русских поэтов, то назвать конкретных литературных учителей и определить конкретный литературный исток ее творчества довольно сложно — это самобытный, ни на кого не похожий поэтический голос. Ее стихи — вольные и живые, вырываются из сердца молодой и вечной казачки, «богатырки» русской былины, впитавшей в себя голоса веков и гены поколений, умеющей и колыбель качать, и на коне скакать, и саблю держать:
Нрав мой — клинок стальной. А ты думал — шелк?
(Лучше б ты никогда меня не нашел!)
Властвуют в нем — не сносить тебе головы! —
Вспыльчивость вихря, колкость осок-травы,
Резкость и резвость молнии шаровой…
Что, говоришь, не боишься норова моего?
Казачьим «норовом», огромной внутренней силой Сейдаметова в этом стихотворении смыкается с вольным, сильным, покоряющим стихом Павла Васильева. Есть в этом стихотворении и характерный для Васильева яркий, «первородный» взгляд на мир, присущая древнерусской литературе и сохранившаяся в казачьем характере открытость первозданной природе: «Жжется привольностью диких горячих степей //Волжский напев мой, — спелых ночей горячей. //Всходят ковыльные звезды, пьянят за погляд, // Песни мои о тебе — по-степняцки звучат». Так узнаваема казачья стать, казачья порода, хотя в остальном Карина Сейдаметова на Павла Васильева не походит. Несмотря на казачий «норов», стихи ее органичны и гармоничны, в них нет слабости, но нет и надрыва — это ровный, доброжелательный голос спокойной и достойной вечной русской женщины с ярко выраженным неразрушенным народным характером. Вера в Бога для нее естественна, как дыхание, а кротость в характере спокойно уживается с раздольной силой: «Знает звонница — знает Боже, //Трудно вымолить грешных нас, //Но молитва пропасть не может…» Так и должно быть, ибо настоящего казака без православия нет, а казачья «вольница» — всегда «иконница». Не случайно в одном из стихотворений вместе со звенящей пчелой древнерусского «Златоструя» — древнерусским символом души, собирающей земной мед книжной премудрости и небесный мед Премудрости Божьей, возникают «небесная изба» Николая Клюева и посвященный русской избе и русскому крестьянскому укладу «Лад» Василия Белова:
Столичного гуляку не проймет:
И в глиняном кувшине с молоком
Он видит только молоко; а мед
Не разделяет с рыночным лотком…
Но солнце теплотой лучей-ресниц
С цветка перелетает на цветок,
И прячет шмель в соцветьях медуниц
Пыльцою запыленный хоботок…
Душа Руси — небесная изба.
Не растеряй посконный свой уклад,
Не на авось надеемся — на лад,
От городской судьбы нас всех избавь,
Охранная небесная изба…
Карина Сейдаметова — жительница вечной России, вечной русской земной и небесной избы — раздольного, бурлящего племенами и народами евразийского пространства, рождающего из себя ту самую блоковскую Русь, где «Чудь начудила, да Меря намерила// Гатей, дорог да столбов верстовых»:
Наследье предков — роковая мета!..
Не потому ль характер мой суров?
В нем царствует татарин Сейдаметов
И властвует казак — Пономарев?
Невольно вспоминается Диана Кан с ее, пожалуй, самой яркой в современной русской поэзии евразийской темой: «Не тычьте мне в глаза, хохол и русский! //Не льстите мне, татарин и уйгур! //Что взгляд мой на Россию слишком узкий: //Я с детства на неё смотрю вприщур». Вспоминается — не случайно: именно в ее литературной студии начиналась судьба Карины Сейдаметовой. «Приоритеты» Д. Кан узнаются — это и евразийская тема, и особое внимание к народному и разговорному языку и фольклору. Относится это и к «первоначальному толчку», данному Дианой Кан, и к совпадениям характера и судьбы. Вообще же на Д. Кан К. Сейдаметова не походит — в поэзии она сознательно идет не только своей, но временами и принципиально отличной дорогой.
Главное для Карины Сейдаметовой — сознательный и подсознательный поиск вечной России на руинах сегодняшней, разрушенной и попранной родины, поиск русского и поиск себя в разоренном, на глазах теряющем русское мире. С одной стороны, ее родина — вечная тысячелетняя Русь, поющая в генах, вечная степная казачья вольница с солнцем родины на плечах, вечная светлая русская евразийская «небесная изба» с древними образами, объединяющая под своей крышей пространства и века, племена и народы. С другой стороны, Карина Сейдаметова — дитя трагических девяностых. На ее глазах была разрушена и разграблена страна, и это определило мировоззрение и мироощущение поэта: «Взрослея до срока, подростки-подранки, //Под стадный разгром площадей //Мы помним, как двигались русские танки //На русских угрюмых людей». Наверное, именно из-за таких «недетских» детских воспоминаний под «кровящим» небом родины вместе с современностью в ее стихи врываются жесткие, а порой и жестокие сегодняшние смыслы, и голос Сейдаметовой начинает звучать с удивительной зрелостью и трагической силой:
Минувшее сомкнулось с будущим,
Ни слез не ведая, ни зла.
И Родина, примерив рубище,
Стальною розой проросла.
На такую «жесткость», сочетающуюся с классической строгостью и выверенностью стиха, среди русских женщин-поэтов была способна, пожалуй, только Светлана Кузнецова. При прочтении «Вольницы» Светлана Кузнецова вспоминалась мне часто. Ни о подражании, ни о похожести тут тоже говорить не приходится — так Витим, Ангара и Байкал через огромное евразийской пространство аукаются с Волгой — и оказываются едиными в пространстве русской речи, где русское слово во всем его многообразии — великая формообразующая сила, «матрица» народного сознания. Эта «похожая непохожесть» по природе своей куда интереснее и важнее, чем кажется на первый взгляд. Я не уверена в том, что у Карины Сейдаметовой была возможность познакомиться с творчеством не переиздававшейся с 1988 года Светланы Кузнецовой, книги которой сейчас, к сожалению, стали библиографической редкостью, но при погружении в народную и классическую стихию русского слова разъединяющие пространство, время и разорванное «информационное поле» оказались неважными — два совершенно разных поэта, рожденные в разные эпохи в разных уголках огромной страны, не сговариваясь, стали участницами стихийно возникшей поэтической переклички, поскольку оказались жительницами одной небесной и земной «русской избы» от Волги до Ангары, вмещающей в себя века, народы, пространства, судьбы. Речь идет не о внешнем совпадении — о глубинном внутреннем чувстве слова и мира, о похожем, в народных генах заложенном отношении к жизни и работе со словом. Хотя ответы на заданные судьбой вопросы поэты зачастую дают противоположно разные. Светлана Кузнецова: «Смеюсь и падаю на белые, //На очень белые снега. //Тому, что делаю и сделаю, //Я говорю: «Закон-тайга!» Карина Сейдаметова: «Ты и раздольная, ты и раскольная! // Шашки рядить наголо, // Чтоб на форпостах небес своевольное //Русское солнце взошло». Светлана Кузнецова: «Жизнь моя — трепетанье слова, //По холодной равнине бег, //Красота и тщета улова, //Мною брошенного на снег». Карина Сейдаметова: «Век мой китежный, отражение // Бела-облака в озерце… //От искристой воды свечение, //Отсвет радости на лице…»; Светлана Кузнецова: «Тысячелистник, зачем тебе тысяча листьев? //Сеятель русский, зачем тебе тысяча сказок? //Уж насылает Восток чары хитрые лисьи, //Запад — тома деловитых подсказок-указок». Карина Сейдаметова: «Среди сутолок будничных дней, //Среди призрачных дум о высоком, //Кроме сказок, светлей и ясней //Мы согреты лучами востока». Светлана Кузнецова: «Но красота, которой больше нет, //Дороже той, которая родится…» Карина Сейдаметова: «И в ладу с усталыми людьми //Трепетной доверься новизне. //Той, которой в мире еще нет»; Светлана Кузнецова: «Зеркало, сундук и пяльцы…// Я проснусь — а сказка около, — //Синяя финифть на пальце //У Финиста-ясна сокола. //Я тебе, дружок мой майский, //В зиму хладную не рада, — //У Финиста — финиш райский, //У меня же — финиш адов. //Не для комнаты убогой, //Сирой доле потакая, //За сырым лосиным логом //Синева взошла такая». Карина Сейдаметова: «Все проходит, стихи — остаются. //Изумрудный крыжовник порой //Кинешь в синее гжельское блюдце — //И леса, и река пред тобой //Вдруг очутятся в сказочной яви, //И завертится блюдечка круг… //В неотмирной, стихийной державе //Ты поэтом окажешься вдруг!» Такое родство при полном сохранении собственной индивидуальности и есть воплощение земной вечности русского слова — где русскую песню начинает один поэт, подхватывает другой, продолжает третий — все голоса разные, а песня — одна, ибо поет ее — Россия. Интересно и то, что, кроме глубинного отношения к слову, совпадает у этих поэтов и внутренний вектор развития — сквозь фольклорную «вольницу-иконницу» наметилась у Карины Сейдаметовой тяга к строгой и точной простоте, характерная и для поздней Светланы Кузнецовой. Путь это — очень плодотворный и позволяет ждать серьезных поэтических плодов от сложившейся как поэт, молодой и очень перспективной Карины Сейдаметовой.
«Молодая» — еще одно ключевое слово к «Вольнице». Карина Сейдаметова — поэт безоглядно молодой, безоглядно открытый и безоглядно влюбленный в жизнь.
Щедрая полночь разбрызгала золото.
Звезды — медовыми сотами...
Прыгай с откоса беспечно и молодо.
Наши падения грезят высотами.
Мир раскрывается в ответ открытой душе поэта — поет всеми красками и голосами. Образы ее яркие, поэтические движения — естественные и неожиданные: «В звездном отблеске под ногами //В эту ночь каждый камень — синь!... //Разойдусь по воде кругами //И, как в вечность, нырну в полынь». Естественно, в книге много стихов о любви, таких же открытых, молодых и безоглядных: «Несмелая, иду под вздох черемух, //Себя на «до» и «после» не деля. //Мой самый точный, самый важный промах — //Жить начинаю набело, с нуля». Но при всей обезоруживающей молодой открытости меня в стихах Карины Сейдаметовой привлекает именно то, что она — поэт, безусловно, серьезный. Сказывается это не только в серьезной кропотливой работе над словом — каждая строка у нее несет важную эмоциональную, образную и смысловую нагрузку. Карина Сейдаметова — человек видящий, зоркий, думающий, примечающий. Поэтому лирика ее, не претендуя на звание философской и оставаясь безоглядно живой, совершенно естественно наполняется поиском смысла в повседневном, живой верой, зорко подмеченными оттенками чувств и движений души: «И если Бог — любовь, и Слово — высь. //Развей обманов прежние дымы! //Здесь травы и соцветия срослись //В стране равнин и ливней — словно… мы».
Карина Сейдаметова — поэт хорошего вкуса. В ней есть молодое движение души — но нет молодого незрелого смысла. Это спокойный и глубокий собеседник, стихи которого можно читать и перечитывать в первую очередь потому, что любовь, внутренняя тишина и постоянный поиск сути никогда не приносятся в жертву излишней яркости и броскости. Хочу закончить рецензию на книгу Сейдаметовой строками одного из лучших ее стихотворений о молодом лесном подросте: «Он скоро в полный голос, в полный рост //Так крону распрямит и запоет, //Могучим лесом вызревший подрост… //Напрасно мир не брал его в расчет!..» Очевидно, что К. Сейдаметова дерзнула вступить в диалог и написать поэтический отклик на два шедевра русской лирики — стихотворение Е.А. Баратынского «На посев леса»: «И пусть! Простяся с лирою моей, //Я верую: ее заменят эти //Поэзии таинственных скорбей //Могучие и сумрачные дети», и стихотворение А.С. Пушкина «…Вновь я посетил»: «Здравствуй, племя //Младое, незнакомое!// Не я увижу твой могучий поздний возраст, //Когда перерастешь моих знакомцев //И старую главу их заслонишь…» И если с сомневающимся в нужности собственной поэтической лиры Баратынским, называющим идущие ему на смену новые племена «пустоцветным колосом», безоглядно влюбленная в поэзию и устремленная в будущее Карина Сейдаметова согласиться не может, в ответ на приветствие Пушкина лира представительницы «племени младого, незнакомого» и взметнувшегося ввысь буйными кронами вчерашнего «поэтического подроста» откликается торжественными, радостными и дерзновенными нотами:
И музыкой, и мукой осиян,
Он «щит и меч»: цвети, шуми и пой!..
И превращай поэзию славян
В неукротимость поросли младой.
После этих строчек не хочется говорить лишних слов — все главное написано, и написано — великолепно. Остается сказать — да будет так!
Наталья Егорова
