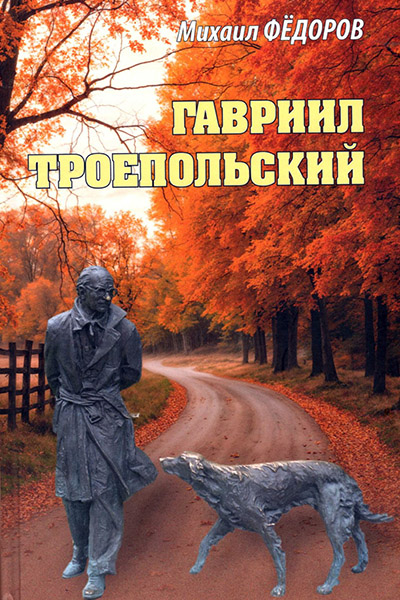
Станислав Зотов, бывший редактор журнала «Наш современник»
Михаил Фёдоров. Гавриил Троепольский. – М.: Вече, 2025. – 576 с.: илл.-500 экз.
Создавая свой биографический роман об авторе «Белого Бима», Человеке с большой буквы, Михаил Фёдоров сразу копнул глубоко – в начало прошлого века – в годы первой русской революции, первой Смуты, под знаком которой, собственно, и прошёл весь XX век в России. Оттуда тянутся корни всех наших бед, но оттуда же, из тех времён проистекают судьбы и многих наших замечательных соотечественников, что подвижническим своим трудом спасли и украсили Россию. И сразу, с первых страниц романа завязываются узелки той драмы, что пройдёт потом через всю жизнь героя. Отец Гавриила Николаевича – священник, накануне грозных лет в истории России получивший сан и по своей доброй воле из губернского Тамбова направившийся на службу сельского батюшки в чернозёмную глубинку – в Борисоглебский уезд, где в селе Новоспасовка в ноябре 1905 года и появился на свет будущий писатель.
Родившийся в семье священника, он, по традиции, и обязан был продолжить дело отца – так всегда водилось в священнических семьях, но крутые изгибы российской истории переиначили всё… Отец будущего писателя был мудрым и удивительно рассудительным человеком – таким изображает его М. Федоров. И он, предвидя многие скорби, что придётся перенести сословию служителей Бога, направил своего сына на стезю хлебороба. Гавриил Николаевич окончил в 1924 году сельскохозяйственное училище, и большую часть своей жизни работал агрономом.
Вообще, первая часть романа – это, скорее, повествование об отце писателя, о его семье, жене – добрейшей матушке Елене, о нелёгкой судьбе сельского батюшки, которому пришлось по долгу своей духовной службы Богу и людям немало помесить южнорусского нашего чернозёма, добираясь по непролазным дорогам от одной церкви до другой. Священников не хватало, и приходилось окормлять несколько приходов. Фёдорову удалось написать удивительно человечный, удивительно органичный портрет подлинного подвижника, бессребреника, необыкновенно доброго и мудрого человека. Отец писателя, его мать, вся их семья – это просто образец благочинного русского дома, где любовь, добро, совестливость, отзывчивость являются необходимыми условиями праведной жизни.
В годы раскулачивания и коллективизации русской деревни был нанесён смертельный удар всему старинному ладу русской крестьянской жизни и прежде всего удар наносился по русскому православию – в нём атеистические власти видели главную опасность для новой жизни. В 1931 году местные борисоглебские чекисты состряпали дело о так называемой «церковно-монархической организации», куда приплели многих местных священников, да и просто искренне верующих людей. Во главу этого «заговора» был волей следствия определён отец Николай, к тому времени – местный благочинный. И на страницах романа Фёдорова со всеми прискорбными подробностями разворачивается поистине дьявольская интрига, следствием которой стал расстрел без суда летом 1931 года в оврагах под Борисоглебском безвинных людей, в том числе и батюшки Николая, отца Гавриила Николаевича Троепольского…
Почти до конца его дней над сыном священника будет висеть, как проклятие, мрачная тайна его отца. Местные власти, видимо, испугавшись возмущения народа на такую бессудную расправу над уважаемыми людьми, служителями церкви, хоронили всё в сугубом секрете, и долгие годы родственники отца Николая всё надеялись, что их батюшка жив, может быть, – сослан на север, может быть, вернётся… Лишь под конец своей жизни Гавриил Николаевич узнает подлинную участь своего отца… Поразительна сцена из романа Фёдорова, когда следователь Степанов, ведший «дело» отца Николая и своей рукой, по сути, определивший ему смертный приговор, вдруг узнаёт в своей жертве того человека, что спас его, раненого в бою чекиста, во время антоновского восстания в 1921 году, укрыл от мятежников, от неминуемой расправы. Совесть вдруг поднимается жаркой волной в этом человеке, он не находит себе места после расстрела обречённых и постепенно сходит с ума…
Однако именно оставление властью в тайне дела «церковно-монархической организации», видимо, помогло детям священника Николая, в том числе и Гавриилу Николаевичу, не подвергнуться репрессиям как детям «врага народа». Молодой агроном Троепольский никогда не отрекался от своего отца, он успешно работает на опытно-селекционных станциях, где испытывает новые сорта зерновых, помогая своей работой становлению новой колхозной жизни. Первые его литературные опыты появляются тогда же. Сначала – под псевдонимом Лирваг (Гаврил – если читать от конца), а потом и под собственной фамилией Троепольский он начинает публиковать свои первые рассказы и очерки из сельской жизни в альманахе «Литературный Воронеж» и местных газетах. В нём просыпается неизбывная жажда творчества, что так свойственна всем, кто твёрдо ступил на нелёгкую писательскую стезю.
Дальше в судьбе писателя Троепольского была война, надолго прервавшая его творческий путь. Не призванный в армию в силу своих служебных обязанностей – на нём висела ответственность за сортовые семена на опытной станции под Острогожском, которую он возглавлял, он оказался в оккупации, но выполнял задания советской фронтовой разведки, собирал сведения о расположении немецко-фашистских войск и переправлял их за Дон. Не раз приходилось ему переправляться через большую реку, бывшую тогда линией фронта, передавать собранные материалы нашим военным и возвращаться обратно в тыл к немцам. Это было связано со смертельной опасностью, немцы вешали всякого, кого подозревали в борьбе против них. Часто видел агроном-разведчик трупы повешенных советских людей на улицах Острогожска, но самообладания не терял, в нужный момент мог и заступиться за обречённых, в том числе прибегая и к помощи немецких властей, ведь у них он был на хорошем счету – Троепольский продолжал работать на своём сортоиспытательном участке, якобы готовя урожай для нужд «Великой Германии». Однако не пришлось оккупантам пожать этот урожай. После разгрома под Сталинградом, в начале зимы 1943 года, колонны немцев, венгров, их прислужников бандеровцев, которых немцы использовали как карателей, стали покидать Острогожск.
Первую литературную славу Троепольскому принёс 1953 год, когда в мартовском номере журнала «Новый мир» вышли в свет его новые рассказы. Александр Трифонович Твардовский сразу подметил незаурядный талант из глубинки, и страницы его журнала с тех пор были широко открыты для прозы Гавриила Николаевича. И так продолжалось всё время, пока Александр Трифонович оставался во главе этого издания. Он стал подлинным литературным отцом для Троепольского, и любовь к этому человеку Гавриил Николаевич пронёс потом через всю жизнь, посвятив ему главный свой труд – повесть «Белый Бим Чёрное ухо», которую опубликовал уже в журнале «Наш современник» в 1971 году. Наш журнал и стал его истинным духовным оплотом. С 1976 года он – член редколлегии журнала.
Так уж сложилось, что в большую литературу Троепольский вошёл уже зрелым человеком. В 1954 году его приняли в Союз писателей СССР, а ведь ему уже было почти 50 лет. Как утверждает Фёдоров, отношения его с воронежской писательской организацией складывались непросто. Никогда в жизни Гавриил Троепольский не участвовал ни в какой «литературной борьбе», не добивался ни чинов, ни званий, ни наград, хотя по заслугам получил в 1975 году Государственную премию за «Белого Бима». Он всю жизнь оставался очень рассудительным русским писателем, словно продолжая традицию корневой, почвенной нашей литературы, знающей правду земли-матушки, всё примиряющей, всё успокаивающей в себе.
Уже на склоне своих дней Гавриил Николаевич, будучи всемирно известным писателем, добился раскрытия секретных архивов, из которых и было извлечено дело его отца, пересмотрено, и доброе имя священника Николая Семёновича Троепольского вновь вернулось к людям. Сын оправдал своего отца! Разве это не достойный итог жизни?..
