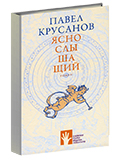
От редакции: о романе Павла Крусанова «Яснослышащий» мы уже писали («Разумная душа симфонии», «ЛГ» № 34, 2019). Но созданный писателем миф, его «звуковая» картина мира продолжают вызывать дискуссии – как среди читателей, так и среди коллег. Своё видение романа предложил известный петербургский писатель Александр Мелихов.
«Яснослышащий» – новый роман Павла Крусанова.
Крусанов продолжает заниматься благородным делом мифологизации нашей реальности, для чего, строго между нами, литература и предназначена.
«Увертюра» — глава первая начинается как неспешное реалистическое повествование: шестилетнему мальчику вцепилась в горло зверская ангина, и ультразвуковое зондирование обнаружило в его тельце что-то вроде маленького рыбьего пузыря. Магнитно-резонансный томограф конструкции Владислава Иванова уточнил его форму, но при попытке взять биопсию шарик сдулся до таких размеров, что его было уже не разглядеть. Далее появляется гениальный хирург Неустроев, который ещё в 1937 году подключил собаке механическое сердце, а в 1956 году в США был показан фильм о пересадке Неустроевым собачьей головы. Названы все приборы, все имена – впечатление полной достоверности, и лишь в финале увертюры герой-повествователь замечает, что этот его внутренний пузырёк, возможно, не единственная, но причина всех его проблем и заморочек.
При этом, однако, он убежден: «отсутствие шарика – бо́льшая беда».
«Мы нуждаемся в друзьях, потому что дружба – это наслаждение: азарт беседы, хмель застолья, живая глубина молчания. Это восторг открытий и радость понимания того, что внутренне становишься богаче — словно надуваешься чужим дыханием и летишь. Ведь наши друзья всегда в чём-то лучше нас – таков секрет притяжения. А вы? Что вы способны предложить? Вы такой же буржуазный ловкач, как и я. Чем мы обогатим друг друга? Страстью стяжания подтяжек от Кляйна и чуней от Бротини?», – так начинается следующая глава «Оглашение мира». Крусанов один из очень немногих в современной литературе, кто не боится говорить красиво, и правильно делает, ибо цель искусства (это ещё более строго между нами) прежде всего красота. И герою не жаль потратить такой блистательный монолог, чтобы отшить опознавшего его в кафе приставалу: «Я мигом разобрал мелодию его душонки».
«Кстати, о мелодии… Хотя тут не о чем и толковать: каких материй мы бы ни касались – псовой охоты, чёлмужских сигов или, допустим, Марксового приснопамятного «сюртука» (der Rock), – мы говорим всё время о себе, то есть о своей душе, страстно желающей вселенского признания. И через любую щёлку мы её являем, оповещаем о ней мир, порой отчёта в том не отдавая, – вот, мол, какая она у нас тонкая, ершистая, неповторимая, чудная… И так всегда. В каждом слове нашем душа, как младенец в утробе, толкается — рвётся на свет: из одного торчит наружу, словно монтёр из люка, из другого только глазом лупает, будто котёнок из валенка. А из речей того, что подкатил ко мне в кафе, плечом вперёд рвалась никчёмная душонка. И чтобы различить её напористый мотив, не надо штудировать басовый и скрипичный ключ в консерватории. Надо всего лишь обрести безмолвие. Тогда сумеешь и другого расслышать верно, и для себя уловишь истинный напев. Его подхватишь, последуешь за ним – и будет счастье».
Поняли, что нужно для счастья? Уловить истинный напев. Для чего требуется лишь обрести безмолвие.
«Говоря о безмолвии, надо понимать, что речь идёт не о молчании вмещающего нас бедлама, поскольку здесь не сыщешь немоты, здесь вечно что-нибудь то скрипнет/треснет, то квакнет/громыхнёт, – речь о внутреннем безмолвии, гарантию которого даёт определённого извода глухота. Врождённая или усилием труда приобретённая. Само собой, желанное безмолвие не абсолютно – слух не отключён, а просто правильно настроен, благодаря чему твой резонатор отзывается лишь на манящую свою мелодию, поскольку она пропущена сквозь фильтры, так сказать, тугого уха и облущена от фоновых шумов внешней бла-бла-сферы. А слышать свою мелодию надо непременно – только она способна обеспечить успешный танец на канате, натянутом над бездной (помните? один усатый немец говорил). Пока следуешь своей мелодии, ты неуязвим, ты знаешь путь и ты бесстрашен. Но если твоё потаённое безмолвие, эти чистые звуки в тишине, перекроют посторонние шумы – ты обречён и неспасаем, какой бы поводырь ни предложил козьей тропой сопроводить в Эдем». (Отметьте эти отнюдь не сегодняшние образы – козья тропа, Эдем…)
Хранить потаенное безмолвие, следовать своей мелодии – какой такой мелодии, мы же не в филармонии живем? Да и там мы вроде бы слышим одну мелодию на всех?
Речь идёт ни больше ни меньше, как о замене оптической метафизики акустической, а для начала – о переходе от зрительных метафор к звуковым.
Прошу не прощения, а признательности за столь длинные цитаты, уж очень они значительны и красивы.
«Что я хочу сказать? А вот что. Традиция человеческой премудрости – с Платоновой Академии и до наших дней – толкует истину как нечто в той или иной степени незримое. Обитателям пещеры крутят на стене/экране довольно скверное кино, где лишь мелькание теней, тусклые отсветы, размытые наплывы и прочие увечные проекции подлинного бытия – это, как помним, и есть наше представление о сущем. С тех пор и доныне в европейской метафизике традиция оптического описания предмета, прошу простить за невольное потворство этой практике, бросается в глаза: небесные эйдосы, недоступные земному зрению, пролитая из разбитых сосудов и пребывающая в изгнании шехина (божественный свет), постигающий природу вещи lumen naturalis Декарта и Спинозы… Тот же оптический закос и на площадке бытовой риторики: сияет светоч разума, оспаривается взгляд на вещи, пленяют радужные мечты, поблескивает луч надежды… Про чёрные помыслы, белые зарплаты, серые будни нечего и говорить – зелёная тоска. Вся многовековая работа философии, покорной диктату голодного зрачка, сводилась, в сущности, к тому, чтоб умозрительно дорисовать, достроить, допредставить невидимую часть айсберга истины. А между тем, как нам авторитетно заповедано, в начале было Слово. Не форма, не чертёж, не образ – Слово. И поскольку язык творения неведом нам (всякий чужой язык для слуха не более чем тонированный строй гласных и согласных, значение которых, в принципе, равно значению нот и тембров в музыке), то нет ни кощунства, ни ошибки в утверждении, что в начале был вещий Звук. И Звук был Бог. Он, Всемогущий, гремел чередой творящих глаголов/аккордов, а усмирённый хаос внимал гармонии и обращался в космос».
А изгнание из рая прежде всего заключалось в том, что человек «накрепко оглох в пределах того диапазона, в котором звучит первозданная музыка сфер».
А если бы он её слышал, то писанные на скрижалях законы ему бы не понадобились: «Ведь у тебя просто не получится вершить дела, рассогласованные с гармоничным строем окружающего мира, потому что чудовищная фальшь тут же разорвёт твоё сердце. А если не разорвёт, то тебя всё равно выпрут из оркестра, поскольку фальшь твоя будет распознана сразу и всеми: перестань пялиться в декольте флейтистки – там нет нот, твоя партия на пюпитре!».
Как и во всякой серьезной литературе, сюжет «Яснослышащего» развивается на двух уровнях – на обыденном, «реалистическом», и на символическом, чтобы не отпугнуть читателя словами «философский» или «метафизический». Пугаться не нужно, это увлекательное чтение и для наивного восприятия, это полноценный роман, в котором есть и двуглавые собаки, и дельфины-убийцы, и любовь-дружба-предательство-измена, и взрыв ленинградской рок-культуры, которую герой именует асса-культурой, – усматривая, однако, и в её взлёте связь с небесами.
«В те времена самый чудесный город на земле был в очередной раз отмечен персональным вниманием небес. В него ударил пучок незримых молний, твердь дрогнула, и повсеместно – от Васильевского и Петроградской до Средней Рогатки и дикого Купчина – забили источники неудержимо взвившихся энергий. Распылённым ядом был напитан сам невский воздух, он отравлял людей, и они галлюцинировали, обнаружив себя искажёнными в искажённом пространстве, – тогда не быть музыкантом, поэтом, художником значило то же, что не быть вовсе».
«Зачарованный пир продолжался недолго. Вскоре время весёлых и дерзких нестяжателей было погребено под обломками их страны, а потом выметено вместе с сором новой генерацией алчущих деляг. Не то чтобы в той стране все были весёлыми и дерзкими, а в следующей, межеумочной – посредственностями и делягами, но нестяжание в этой, межеумочной, определённо перестало считаться доблестью и сделалось объектом злых насмешек».
И всё-таки ближе к финалу в интервью журналу «Аритмия» главный герой называет их новыми эллинами – «засранцев того склада, что подарили миру асса-культуру. Весёлых раздолбаев, желающих невозможного. Поскольку именно желание невозможного – черта, отличающая человека высшей пробы от его меньших братьев по разуму. Ты ощущаешь предел, но отказываешь ему, пределу, в праве быть. Это позиция, не признающая поражения. Позиция непобедимого засранца, понявшего, что бессилие придаёт жизни вкус. Ведь воплощённое желание в конце концов – неизменно скука, пошлость и разочарование. Куда величественнее другая установка: пусть мир вокруг продаёт и покупает, скругляет острые углы, чистит пёрышки и следит за кожей подмышек, я буду стоять посреди всё тот же – гордый и непреклонный в своём чудесном бессилии. Именно так новые эллины и стоят – посреди. И если нам хватит жизни, мы увидим, как материя подчинится их воле, реальность дрогнет и осыплется, точно старая штукатурка, – бессилие станет силой, деньги потеряют власть и лакеи кувырком полетят с незаконно занятых мест, потому что господа вернулись. И воссияют достоинство и добродетель. И наступит сказка».
«Яснослышащий» и на реалистическом уровне самый настоящий гимн «чудесному бессилию». Но на уровне мифологическом герой отчасти всё же прикасается к нездешней музыке, обладающей реальной созидательной силой.
В Библиотечно-информационном центре на Невском, 20, бывшей Голландский церкви он проводит сеансы сверхзвуковой музыки — «неслышимые колебания, зримые образы». Колонки, синтезаторы, клавиатура — все перечисляется безо всякой мистики. И вдруг — «под потолком, в сумрачной пустоте, вспыхивает большая, пузырчатая, жёлтая, будто подсвеченная изнутри лимонным неоновым сиянием ягода морошки. Идеальная ягода. Внутренний огонь земной морошки. Чистый восторг вышнего замысла о ней».
Затем огромная белоснежно-яичная ромашка. «Не просто красота — абсолютная, безукоризненная, лютая непогрешимость. Хотя сам я, конечно, видел (а точнее — слышал), не мог не видеть: это всё же слепок красоты, иллюстрация в атласе земных чудес — изображение прекрасно, но мертво, как принцесса в хрустальном гробу. Оно не дышит».
Но ведь живая и мёртвая вода всегда работают в паре — «так, может, надо окунуться в пламя смерти, чтобы сложить напев, который дивным образом животворит?»
И герой отправляется на пылающий Донбасс бойцом с позывным Алтай.
Донбасская глава «За мертвой водой» написана в стилистике точного и жёсткого очерка, контрастирующего с изящной музыкальностью предыдущих глав. Книгу это бесспорно обогащает, но, поскольку замысел «Яснослышащего» вольно или невольно подталкивает к поиску и в этом контрасте какого-то высшего смысла, в голову приходит, что война, да и вообще политика, не вписываются в мировую гармонию (а ярких политических вкраплений в книге немало — часто весьма спорных, но ведь интересным может быть только спорное). Можно дать и другое истолкование: в высшую гармонию входит и то, что человеческому уху представляется дисгармонией.
Крусанов в сегодняшнем царстве рацио ухитрился сотворить полнокровный миф, который, как и положено полнокровному мифу, может быть прочтён и истолкован многими способами. Равно как и его на редкость изобретательное завершение. В чём оно заключается — не буду, как теперь принято выражаться, спойлерить, но свою трактовку привести рискну: призывая на помощь высшую гармонию, рискуешь уничтожить и что-то для тебя дорогое.
Не исключая и себя самого.
И всё же в заключительной «Коде» герой, более не играющий музыку, продолжает, отсеяв «сорные шумы», слушать музыку, «разлитую повсюду, пронизывающую толщу мировой храмины от основания до маковки».
«Представить только, от скольких дребезжаний мы могли бы уберечься и скольких столкновений избежать, направив дело к общему согласию, если бы слух наш не был так досадно ограничен. Каждый ясно расслышанный мотив музыки храма бытия имел бы тогда для всех неоспоримое значение и однозначный смысл – кто стал бы возражать против того, что явно? А если бы нашлись прохвосты, они бы скоро очутились в одной палате с теми, кто сомневается, что вода мокра, мёд сладок, а огонь горяч».
Представить трудно, но, пока читаешь «Ясновидящего» в это почти веришь.

