К ценностям самым простым, но самым подлинным и ничем не упраздняемым свойственно тяготеть нормальным людям. И нормальной литературе тоже, которой всё меньше нравится пребывать в бессрочном отпуске, больше похожем на больничный в связи с болезнью хронической свободы. Нынешняя журнальная литература обнаруживает признаки такого оздоравливающего и воистину земного тяготения к вечно человеческому. И всё чаще её осеняет «мысль семейная», толстовская, испытанная войной и миром.
, НОВОСИБИРСК
ВЕСЁЛЫЕ РЫБКИ НА МОКРЫХ САЛФЕТКАХ
Наиболее симптоматичен в этом смысле роман Григория Кановича «Очарованье сатаны» («Октябрь», № 7). Слишком уж несовместимы родственно тёплый, уютный круг обитателей местечка Мишкине и пришедшая сюда война. Теплом почти домашнего, семейного общежития так и веет от героев романа – смотрительницы кладбища Дануты-Гадассы и её сына Якова, портного Банквечера и его семейства и других. Страницы романа так и не осквернит ни один фашист, не выстрелит ни одно ружье. Исчезнув словно сами по себе, герои как будто просто выйдут «за сцену» романа, чтобы укрупнить один образ, одну судьбу. Это Элишева Банквечер, которая батрачит на хуторе зажиточного литовца Ломсаргиса. Но главную «работу» она выполняет не физически, а духовно, принимая на себя все страдания расстрелянных мишкинцев. И даже сверх этого, соглашаясь на принудительное обращение в католичество и совершая тяжкий грех самоубийства. Действует тут, видимо, и семейное чувство, побуждающее её воссоединиться, пусть и за пределами жизни, с большой «семьёй» убитых единоверцев. Звучит эта «мысль семейная» в романе и тепло, и трагично, и торжественно, как гимн или похоронный марш.
Сейчас мировых войн вроде бы нет, а люди разных народов почему-то охотно снимаются со своих мест и местечек ради иллюзии счастья. Коллективный портрет таких добровольных изгнанников даёт Евгений Клюев в стихотворной подборке «Иммигранты» («Дружба народов», № 8). Каждый из них странен, трагичен, смешон в иммигрантской роли, оказавшись между двумя родинами – покинутой и так и не обретённой. Таков Абдулла из одноимённого стихотворения, «который уже год» уезжающий «отсюда» со своей семьёй. Надо понимать, что никуда и никогда он не уедет, потому что ничего с собой не берёт: «Ни любви, ни отваги, ни как её… веры в Аллаха», ни «пожилую зурну», ни чалму, ни семью, которую как будто сначала брал. Абсурд этот, впрочем, имеет высший смысл, когда выясняется, что родины-то и нет («там все погибли давно»).
Настоящая война, только без фашистов и танков, идёт в повести Людмилы Коль «Нефритовая черепашка» («Звезда», № 7). Одинокая мать не замечает, как из её доброй и светлой дочери вырастает злобная нелюдь, гадкая «сучка». Повесть больше похожа на исповедь заключённой или хронику отступления всепрощающей матери перед дочерью с истинно женским именем Анна. Разрешается же ей то, что женщинам несвойственно: загулы и пьянство, тунеядство, редкостная грубость и даже оправдание своего сволочизма поколенческим шовинизмом. Добром такая «семейная жизнь» не могла кончиться: мать до смерти избивает своё чудовищное дитя. Победа в схватке двух поколений присуждается, как видно, старшему. Младшему достаётся нефритовой черепашкой – символ всего бездушного и бесполезного – по голове. Но автор всё же до конца не уверена ни в чьей вине.
Подтверждает мысль о невозможности чьей-то конкретной вины в семейных трагедиях зеркально противоположная предыдущей повесть Ирины Васильковой «Садовница» («Новый мир», № 7). Сюжет «дочки и матери» тут как будто перевёрнут: добрая, любящая дочь, терпящая обиды от злой, ненавидящей матери, обожающей называть своё дитя: «дрянь», «дура, уродина и лентяйка». Дочь виновна уже тем, что она дочь, а не взрослый человек. Потому и растёт она с неувядаемым чувством вины: её мать не просто идеал, а воплощение «женского естества». Может, поэтому дочь выбирает роль вечной садовницы, растящей сад своей вечной женственности, немыслимой без семьи и надзирающего ока матери – старшей «сестры» по «естеству».
Итак, непонимание родных, казалось бы, людей остаётся необъяснимым. Особенно если речь идёт о супругах, которых когда-то соединила любовь. Об этом пишет в своём рассказе «Вот оно, глупое счастье…» («Москва», № 7) Евгений Эрастов. Разница между Андреем Лыжиным и его женой Ирой только в том, что жена ещё не видит своего окостенения в прошлом, а муж-врач его уже ненавидит. Занимаясь репетиторством, она твердит на уроках один и тот же есенинский стих о «глупом счастье». При первой возможности муж переселяется в квартиру, подаренную умершей пациенткой. Копаясь в книгах, открывает для себя литературные сокровища Серебряного века... Автор оставляет своего «поглупевшего» героя наедине с собой, когда «он сам не понимает, что хочет в этой странной, абсурдной, непредсказуемой жизни». Вернее, бросает, потому что один человек счастлив быть не может.
БЕЛЫЕ ДЫРЫ ОХЛАМОНЫЧЕЙ
Марк Харитонов в своей повести «Ловец облаков» («Знамя», № 8) показывает, что человек не может быть счастлив одним искусством – только может быть болен им. Иннокентий, художник, смолоду витающий в облаках, умеет видеть «в пространстве, пустом для других», что-то своё, обязательно облачное, размывающее привычные координаты и контуры. Он пытается «уловить мгновения», когда эта колдовская облачность поднимает в воздух дома, деревья и проч., «не отбрасывая тени». Встретив же легкомысленную Веронику, он её не просто «поднимает», а превозносит над жизнью себе на беду. Впрочем, он уже наперёд знает от цыганки о своей судьбе, что доживёт «не до старости, а до седины» и что из двух предназначенных ему женщин одна «его разбудит», а со второй он взлетит к вожделенным небесам. Выходя из противоречий и тупиков своей повести, автор в финале пишет маслом по акварели своего текста картины детской жизни героя, подразумевающие искомый возврат к нормальной жизни бывшего ловца облаков.
Герой, оторвавшийся от семьи и от почвы, неизбежно дублирует библейского «блудного сына», достигая апогея антиутопизма. Торжество такой бессемейности – одинокий чудак-скиталец, искатель золотого клада. Назвав свой роман не «Чёрная», а «Белая дыра» («Дружба народов», № 6–7), Николай Верёвочкин как будто ещё надеется на лучшее. Но его героя Прокла Шайкина на его пути к золоту ожидают сплошные дыры-перевёртыши, местами невероятно мерзкие. Одной семейки, интимно спящей с домашними животными, и отвратительной «крысобаки» хватит, чтобы представить себе мутантное состояние современной деревенской глубинки по Н. Верёвочкину. Но вот Прокл наконец-то попадает из антиутопического «Преддырья» в утопическую «Дыру», где происходит смена героя: появляется Тритон Охламоныч, устроивший с помощью фантастического жука жизнь Новостаровки по законам рая. Но благость этого буквально дутого рая хрупка, являясь обычным мыльным пузырём. Куда надёжнее «ВЕЗДЕЛЁТОПЛАВОНЫРОХОД», изобретённый Охламонычем на грешной земле и реалистически ржавеющий где-то во дворе. Финал романа возвращает нас к традиционно утопическому, на этот раз раблезианскому образу: «Хрустальной бутыли», горлышко которой теряется «в глубинах космоса, среди звёзд», напоминающих знаменитую бутылку Рабле – итог поисков героев его «Гаргантюа и Пантагрюэля»...
Отщепенцы – те же юродивые. Самодостаточные, как мифы, они часто несут семье те скрепы, которых сами лишены. Такое «юродивое» счастье в лице архидеревенской Марьяны получила одна провинциальная семья из романа Вячеслава Казакевича «Охота на майских жуков» («Знамя», № 7). Всё, что ни делает по хозяйству эта «нянька и по совместительству наш работник Балда», привезённая отцом «из-за тридевяти земель», отличается какой-то архаичной несуразицей. Но многое объясняется тем, что повесть написана глазами ребёнка в смешении со взрослым взглядом на прожитую жизнь, что даёт своеобразный комический эффект.
Первобытностью, стремящейся к девственности новояза, проникнуты стихи Александра Левина из подборки «За сбычу мечт!» («Знамя», № 8). У поэта тут собственная гордость – своеобычный сленг, на котором можно писать и о «космических курсантах», путешествующих на «кузьмическом корябале», и об автомобильной слякотной пробке, деформируя привычные слова словоерсами то ли старорусского, то ли книжно-латинского извода: «На улице ни плюс, ни минус. / По лужам ползают машинас, /в машиносах грустят водилас, / печально говорят в мобилас» и т.д. Стихотворение о «Мохе чёрной» могла написать и упомянутая Марьяна: «Выходили к мохе люди, улыбались в полный рост, / подавали ей на блюде симпатический компост». В этом развесёлом косноязычии есть, конечно, и нарочитость. Но не псевдохармсовского буквоеда и игруна, а очень одинокого человека. Одиночки, тоскующего по «сбыче мечт» и подлинности слов, от которых «вряд ли подвинутся горы».
С ЛЮБОВЬЮ НА «ТЫ»
Семья держится не на мечтах, а на любви, и не только к слову. Любовь эта может оказаться привязанностью, а может стать по-настоящему кровной, родственной, когда дело доходит до противоборства не «инь» и «янь», а Эроса и Танатоса. Как это происходит в рассказах Владимира Тучкова «Линии жизни» («Новый мир», № 7). Любовь тут исключительно мужская, эгоистическая, замкнутая на саму себя и своё подсознание, тяготея, согласно шекспировским законам Ромео и Джульетты, Отелло и Дездемоны, к смерти. Любовь супругов в рассказе «Случай из частной практики» так велика, что муж должен убить именно жену, а не случайного прохожего, чтобы доказать, что их любовь не случайна. Но рассказ «Тот свет», как будто явившийся из газетной колонки «Смесь» или «Калейдоскоп», доказывает обратное. Любитель кинохроники влюбляется в образ участницы физкультурного парада 1939 года и затем разыскивает её, живую и здоровую, в современной Москве. Сделав обратную, то есть «под старика», пластическую операцию, он женится на своём ветхом кумире, по сути, живом трупе. Любовь тут вытесняется сходством мировоззрений, поскольку эволюция привела к вытеснению человеческого «животной биологией».
Владимир Рекшан в своей «задушевной повести» «Родина любви» («Нева», № 8) заглядывает в глубины любви исторической, а не патологической. Ничего похожего на нынешнюю «европейскую любовь» он в этих глубинах не обнаружил. Всем правила «агрессивная и половая мужская идеология», не различающая ни пола, ни возраста, ни степени родства объекта вожделения. И многое должно было случиться, от «римской распущенности» и «Салических законов» франков, «признающих за женщиной некоторые права», чтобы понятия «любовь» и «семья» сделались синонимическими. Ведь и культ средневековой любви у трубадуров был следствием майората – наследованием отцовского имущества исключительно старшим сыном. Тут даже авторитет великого Данте не выручает: по В. Рекшану, он простой транслятор «послания небес», а не своего сердца. Куда реальнее верить в любовь, занесённую пришельцами с НЛО.
Но надо ли так глубоко и далеко забираться? Любовь ведь движет не только «Солнце и светила» и «летающие тарелки», но и тех, кто честно ждёт свою «вторую половину». Рассказ Романа Солнцева так и называется: «Михаил, который ждёт» («Наш современник», № 7), герой его маркирован соответствующей фамилией – Честнов. Работящий, непьющий, беспредельно добрый, с улыбкой «человека, который умнее своего лица», он честно ждёт городскую девушку, пообещавшую приехать к нему в деревню. Михаил собирается начать тут новую жизнь с нуля, обустраивая будущее семейное гнездо. Но вместо этого у него появляется другая «семья» – три деревенские старухи, которым он помогает, как родным. Эти вполне распутинские старухи и подводят рассказ к мысли о деревне как последнем оплоте живого духа и городе – пристанище порока.
Деревня теперь вообще кажется сплошным анахронизмом. Но как без неё обойтись «блудным сыновьям» нашей окраинной эпохи? Владимир Скиф в подборке стихов «Где надо мною вихрь застонет» («Москва», № 7) так и пишет: «Расступится, как разорвётся, небо, / И мне блеснёт остаток вешних дней. / Остынет жизнь, но за краюхой хлеба / Приду в деревню и останусь в ней». Лишь бы это святое, «хлебное» место не превратилось в окраину духа – «собаку бытия». Есть и ещё одно спасение: когда «все битвы проиграны», глядеть «на Россию твоими глазами», глазами главной спутницы жизни. Пусть этот взгляд и не сулит много радости.
Обратная ситуация – женский взгляд и голос, озвучивающий дела и мысли мужа, – даны в материале Веры Туляковой-Хикмет «Последний разговор с Назымом» («Октябрь», № 8). Автор «разговора» решилась на разрыв со своей семьёй ради другой «семьи» – Назыма Хикмета и его «оттепельных» друзей. Оказавшись не личной, а публичной, эта любовь распространялась не вглубь, а вширь. С помощью А. Фадеева, который дружески «выталкивал» поэта-коммуниста в соцстраны, Китай, Вену и т.д.: «Уезжайте, Назым, уезжайте… поглядите на мир». Обращающаяся к мужу спустя сорок лет после его смерти на «ты», автор приближает нас к его живой личности хроникально, стенографируя его встречи, беседы, происшествия. Иначе чем этим теплым местоимением свои чувства, свою любовь ей выразить трудно. Но почему-то очень красноречиво звучит здесь пример с женой Пушкина, которую Цветаева назвала «неодушевлённым предметом». Вот и сама В. Тулякова-Хикмет признаётся, что не сразу полюбила поэта: любовь пришла, когда она стала смотреть на многое «твоими глазами».
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, ГДЕ ТЫ?
О необъятной любви другого классика пишет Юрий Убогий в повести «Богимовское лето» («Наш современник», ‹ 8). Начинается она с сердечной встречи Антона Павловича с Ликой, но ею не исчерпывается, как можно было бы подумать. Мысли Чехова заняты «Островом Сахалин», который он пишет после недавней поездки по Сибири. Панорамность замысла предопределяет и панорамность мыслей, чувств, дел писателя: он наслаждается деревенскими красотами, пользует сельских жителей, вспоминает деда-крепостного, заглядывает в будущее, говорит о «громадном пути у России впереди». Любовь к Лике таким вот образом поглощается у автора любовью к русским просторам, ко всему, что несёт здоровое, чистое начало. Не зря самым любимым произведением Чехова, напоминает Ю. Убогий, является повесть «Степь», где классик предельно заостряет свою мысль, думая о «чистоте природы и мелкости, слабости человека по сравнению с ней». Может быть, поэтому после широкой «Степи» он мог написать узкий «Дом с мезонином», вопрошающий: «Мисюсь, где ты?», то есть настоящий человек, настоящая любовь. Вслед за ним и мы могли бы спросить автора повести: «Чехов, где ты?», сознавая трудность воспроизведения личности этого не широкого, не узкого писателя.
Так же широка в своей поэтической подборке «Национальная идея» («Новый мир», № 8) Олеся Николаева. Она готова освятить своей поэзией и сумасшедшего юношу, объявившего себя «светильником мира», и тетю Розу «из раннего детства» и «из бревенчатого дома», и эфиопов с тамтамами. Весь этот кладезь поэтических образов легко объединяется под крышей рефлектирующего «я» и трудно – под куполом национальной идеей. Тут необходимо «преображение», тут надо взойти «на чудное крыльцо, навстречу «лучу праздничному», чтобы янтарь в косе сверкал. И тогда «сам Небесный Царь / теперь тебя заметит в серой дымке». Но всё это сон или блажь, следствие поэзии как «родовой травмы, дурной лимфы, инфантильных комплексов», если нет национальной идеи, дающей легитимность этому несобранному «я». Надо только прислушаться к гулу истории, прижать «ухо к земле», и можно увидеть, как «Идея Нации вырастает в моём саду. / По соседству с шиповником и сосною, / только те-то выжить хотят, а эта – иною / тайной дышит и рвётся себе сквозь тьму, / чтоб цвести уже там, над небом…».
Национальная идея суть идея семейная. Она же – альфа и омега бытия, основа жизни и литературы. Рассказывает ли она о войне и мире, дочерях и матерях, мужьях и жёнах, народе и государстве, утопиях и антиутопиях.
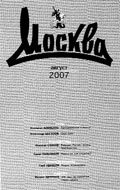

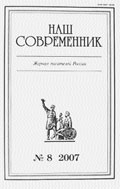


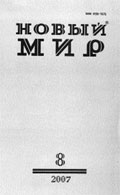



 Владимир ЯРАНЦЕВ
Владимир ЯРАНЦЕВ