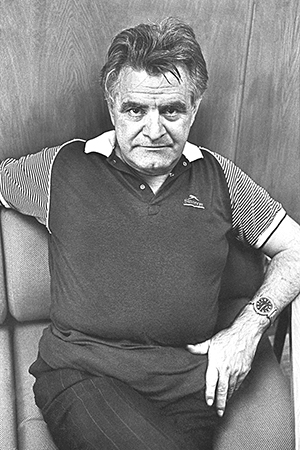
Фазиль Искандер доказывает: если национальное самосознание не страдает комплексом неполноценности, оно излучает общечеловеческие ценности.
Само имя – Фазиль Искандер – сразу вызывало улыбку читателя. Никак не юморист и не сатирик, Искандер обладал удивительным качеством: поднимать настроение. Тем более во времена, когда настроение общества падало до минусовой отметки. «Время, в котором стоим» (его выражение) преодолевалось искандеровским смехом. Смехом против страха, заморозившего страну. Как он понимал своё назначение? А вот так:
Защемлённая совесть России,
Иноверец, чужой человек,
Что тебе эти беды чужие,
Этот гиблый пространства разбег?
…Что тебе эти бедные пашни,
Что пропахли сиротским дымком,
Что тебе эти стены и башни
Цвета крови, скреплённой белком?
…Что тебе? Посмотрели в сторонку.
Почему же, на гибель спеша,
В ледовитую эту воронку,
Погружаясь, уходит душа.
Стихотворение он назвал «Кюхельбекер», но на какие только уловки не шёл он ради прорыва слова к читателю…
Проза и поэзия Искандера действовали против уныния как антидепрессант. Принять рассказ Искандера на ночь – можно было выписывать такой рецепт в нашей литературной аптеке. Сильнодействующее лекарство, не дающее побочных эффектов. У этого лекарства, кроме борьбы с унынием, было ещё одно важнейшее качество: прочищать мозги читателю. Лекарство от Искандера одновременно было и противоядием.
Как отличить выдающегося, уникального по зрению и таланту писателя, преодолевающего среду и время? Выдающийся – а Искандер был именно таким – как демиург, создаёт свой собственный мир. Фолкнер создал Йокнопатофу, Гарсия Маркес – Макондо. Искандер создал свой мир, которого до него не было – хотя он вроде и обозначен на карте: от Мухуса-Сухума до Чегема. И там – история покатилась по шоссе ещё в Гражданскую, да никак не остановится. В пространство расширяющейся, прирастающей текстами и произведениями художественной вселенной Искандера, совсем небольшой географически, но, как однажды сказал он в моём присутствии на международной конференции в Луизиане под Копенгагеном, год 1988-й, Бог даёт счастья каждому народу одинаково, невзирая на величину, – так вот: в это пространство входят и «Созвездие Козлотура», и «Софичка», и «Кролики и удавы», и главное сочинение, opus magnum Искандера с его бессмертным героем-трикстером Сандро, который и диктатора не убоялся на его «Пирах Валтасара».
Это часть мира Средиземноморья, куда входит и Чёрное море, солнце и горы. В центре – мухусский двор, где всегда растёт ореховое дерево, на котором всегда сидит мальчик Чик. Особое гармоническое целое. И это целое нарушает беспощадная и чуждая воля.
Искандер с тоской и печалью пишет вторжение силы в идиллию патриархально-крестьянского жизнеустройства – двигаясь от «Человека, который хотел хорошего, но не успел» до Большеусого с глазами тигра, которого впервые (ещё мальчиком) Сандро встречает на большой дороге как разбойника после экспроприации, бандитского налёта, «экса». Эта сила только отнимает и уничтожает, но ничего не производит. Эта сила нарушает законы природы, но ничего в них не открывает. Эта сила разрушает хозяйство дедушки, насаждая «кумхозы» – абхазские крестьяне даже слово такое правильно произнести не могут, не говоря о том, чтобы в них работать лучше, чем в своём хозяйстве.
Искандеру выпало писать свои главные сочинения в те времена, когда свободному литературному слову было почти невозможно пройти сквозь бдительную цензуру (и её подручную – редактуру), достичь в неиспорченном виде читателя. Цензорские препятствия разрушали архитектуру текста: так, через «Новый мир» к читателю пришла только половина романа.
Эзопов язык – вот договор, который писатель негласно заключал с читателем (и если повезёт, с другом и помощником-редактором). Договор о понимании, об умении писать и читать между строк, ловить на лету намёки, исторические аллюзии. Конечно, эзопов язык есть манера рабья, но, с другой стороны, Иосиф Бродский неслучайно пишет эссе «Похвала эзопову языку», а Лев Лосев защищает в одном из американских университетов диссертацию об эзоповом языке, которую потом издаст учёной книгой. Эзопов язык многому научил писателей – и прежде всего красоте обходных манёвров. Чуткая аудитория ловила знаки – фашистским гестапо писатель обозначал свою тайную полицию, но диалоги были сделаны столь артистично, что сама дешифровка доставляла эстетическое удовольствие. Притча, афоризм и, конечно, царица Эзопа метафора – инструментарий, позволявший Искандеру с особым щегольством обходить рамки бдительной цензуры.
К концу 70-х жизнерадостность покидает творчество Искандера, проза и стихи становятся всё более мрачными. Хрупкая душа мощного художника спасалась памятью о красоте и этике мироустройства, но надежды на их возрождение её покидали. С начала 90-х Искандер расстаётся с иносказанием, переходит к прямому высказыванию, но перед ним уже чуждый «Бармен Адгур» и совсем отличная от чудесной героини «Сандро» Тали «Чегемская Кармен».
Но светящийся, плодоносящий, радостный мир Фазиля Искандера остаётся на сетчатке русского литературного зрения.
Наталья Иванова,
литературный критик,
первый заместитель главного редактора журнала «Знамя»
