Мемуарная акварель
Моя жизнь с Шагалом: Семь лет изобилия / Пер. с англ. Е. Серёгиной. – М.: Текст, 2007. – 223, [1] с.: ил.
Этот худенький изящный томик, украшенный трогательным и исполненным удивительной нежности рисунком Шагала, посвящённым Вирджинии Хаггард, отличают истинно английская сдержанность и достоинство, что вовсе неудивительно, если учесть, что автор содержащихся в нём воспоминаний – дочь генерального консула Великобритании. В 1945 году она волею судеб попала в дом недавно овдовевшего Шагала в качестве экономки, но совсем скоро стала его гражданской женой. Ему было тогда 58, ей – 29. Их совместная жизнь длилась семь лет, потом Вирджиния ушла к бельгийскому фотографу, который снимал фильм о творчестве Шагала, и вышла за него замуж. Шагал тоже женился – спустя три месяца после разрыва. В сухом остатке этих «семи лет изобилия» – их общий ребёнок Давид, несколько замечательных рисунков – и блокноты с дневниковыми записями Вирджинии. Уже предчувствуя неизбежность расставания, Шагал взял тайком один из них и попросил знакомую художницу перевести с английского несколько абзацев. «Мы должны были быть счастливы вместе. Может быть, я просто не понимал, каким был счастливым», – потрясённо сказал он тогда.
Биографы Шагала поразительно редко упоминают об этом периоде жизни художника. Тем большую ценность приобретают воспоминания непосредственной его участницы – умной, тонкой, деликатной и вполне отдающей себе отчёт в масштабе личности, рядом с которой ей довелось жить. Сама не чуждая миру искусств (поскольку училась живописи в целом ряде парижских художественных академий), Хаггард в состоянии адекватно рассказать о своём опыте жизни рядом с гением, не упустив бесценных деталей и подробностей. И вместе с тем это простая и бесхитростная история любви и её утраты – сюжет вполне в духе Шагала.
Свои мемуары Вирджиния Хаггард писала семь лет – считай, в режиме реального времени, – и закончила в 1985-м, снова совпав с судьбой, как раз тогда и решившей поставить в жизни витебского мечтателя финальную точку. Марк, который всегда считал семёрку своим магическим числом, оценил бы этот штрих.
Возможность живописи
Кустодиевские Масленицы: Роман. – М.: Издательский дом «Звонница-МГ», 2007. – 254 с: ил. – (ХХ век: Лики. Лица. Личины).
Из чего состоит картина? Из света, цвета, линий и отношений всего этого между собой. Когда взаимодействует свет с тенью, мы имеем чёрно-белое фото. Когда взаимодействуют линии, мы имеем на одном полюсе рисунок, а на другом – геометрическую абстракцию. Когда взаимодействуют цвета, можно говорить либо об абстрактном экспрессионизме, либо об импрессионистской живописи. И только лишь в том случае, когда картина учитывает все виды отношений между её формальными составляющими, результатом является произведение реалистической художественной школы.
Из чего состоит прозаический текст? Если совсем грубо, то из существительных, которым соответствуют предметы реального мира; из глаголов, которые устанавливают отношения между ними; и эпитетов, которые уточняют эти самые отношения. Или тонко отделяют друг от друга предметы одного класса.
Анатолий Рогов в своём романе исходит из совершенно верных предпосылок относительно литературного творчества, то есть перечисленные выше правила старается исполнить почти скрупулёзно. Как кажется, его сверхзадачей является написание портрета Бориса Кустодиева путём выведения его образа из стихии народной речевой практики, усиленной академическими традициями русской литературы. Метод должен быть признан не только правильным, но и наиболее адекватным для личности героя. Чьё творчество непосредственно вытекало из русской стихии изобразительных средств, усиленных школой Академии художеств.
Правда, Рогов лишь отчасти справился с задачей, хотя попытка должна быть засчитана. Его текст вызывает в памяти волшебные картинки Ивана Шмелёва, но, к сожалению, лишь напоминает их. Многочисленным перечислениям предметов у Шмелёва – а именно они остаются в памяти тогда, когда всё прочее забыто напрочь, – Рогов соотносит многочисленность эпитетов, сопровождающих недлинный список существительных. Речевая практика стремится к импрессионизму, но некоторая однообразность определений мешает воспринимать картину мира Анатолия Рогова исполненной по правилам указанного метода. Что, впрочем, не мешает уверенному рисунку автора: фигуры персонажей хотя и несколько условны, но выразительны. Тщательно, вполне по-кустодиевски проработанный «задний план» придаёт завершённость полотну Рогова: роман богат событиями, он информативен, а потому интересен. Вдобавок любовь автора не только к герою, но и к самой русской вселенной окрашивает «словесный холст» в такие тёплые тона, что чтение лучших страниц «Маслениц» превращается в сопереживание русской повседневности, так или иначе соотносящейся с личным опытом читателя.
Тяжёлый рокполитпросвет
Песни западных славян: Вопли Видоплясова. Ляпис Трубецкой: Документальный роман. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007. – 190 с.: ил.
Автор нескольких десятков сочинений, неутомимый Илья Стогов с некоторых пор уже не столько литератор, сколько «проект». Под маркой Cтогоff Project нам обещана ни много ни мало «Азбука русского рок-н-ролла». Далеко не все из многочисленных фигурантов серии, объявленных на задней стороне переплёта, вызывают равно жгучий интерес, но мимо книги о группах «Вопли Видоплясова» и «Ляпис Трубецкой» человек, числящий себя хоть в некоторой степени «продвинутым» меломаном, скорее всего, не пройдёт.
Украинские «ВВ» и белорусский «Ляпис» – одни из самых интересных групп, появившихся на постсоветском пространстве. И детище яростного киевского рокера с баяном Олега Скрипки и коллектив, ведомый Сергеем Михалком, ироничным минским песняром-пересмешником, представляют собой оригинальнейшие и самобытные явления искусства, что вообще-то в той сфере художественного творчества, к которой они относятся, есть, скорее, исключение из правил. Почему? Вопрос, с одной стороны, простой, а с другой – достаточно сложный. Но ни малейших попыток ответа на него в «Песнях западных славян» вы не найдёте. Едва ли не половину объёма книжки занимают достаточно пространные выдержки из интервью с её главными героями разных лет. Что само по себе неплохо, однако от текста, именующего себя «документальный роман», хотелось бы получить ещё и какую-то меру авторского осмысления.
Впрочем, в строгом смысле слова, у этих «Песней...» автора как такового и вовсе нет. В выходных данных под значком копирайта обозначено: Стогоff И., состав, фото. Так что понять, чьему именно перу принадлежат разного рода «лирические отступления», весьма затруднительно. Между тем они в своём роде уникальны. Таинственный писатель берёт быка за рога сразу: уже первое предложение «Вступления», набранного былыми буквицами на траурном поле, гласит: «У белорусских пограничников была строгая, какая-то очень гестаповская форма и неулыбчивые лица». А далее нам – по принципу контраста – сообщается, какие, напротив, душки и милые люди пограничники украинские, среди которых «много улыбчивых девушек».
И так далее. По книге рассыпаны такие перлы-словосочетания, как «красавчик и коллекционер национального искусства» Ющенко и «красотка Юлия Тимошенко». Не обходится, естественно, и без упоминания «тирана» Лукашенко (с долей шутки, разумеется, но всё же). Остаётся, правда, вопрос: каким образом допустил тиран, скажем, исполнение «Ляписами» кавер-версии известной песни из телефильма «Приключения Буратино» с заменой распеваемого по слогам имени заглавного героя на фамилию президента республики?
В своём геополитическом раже автор доходит до того, что мечтает о том счастливом дне, когда «такой же», как и свободная Украина, «станет и моя собственная страна». Что тут скажешь? Очевидный кикс.

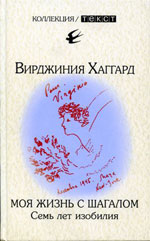 Вирджиния Хаггард.
Вирджиния Хаггард. Рогов А.П.
Рогов А.П. 