Снег на траве: В 2 кн. – М.: Издательство «Красная площадь», 2008. – Кн. 1 – 368 с. Кн. 2 – 256 с.
С этой книгой (артефактом? вещью? объектом? точнее всего будет, наверное, сказать, творением) можно вступать в разные типы отношений.
Можно до бесконечности перелистывать плотные страницы, разглядывая иллюстрации, которых в двух весомых томах аккурат 1751 выразительная единица – всё точно подсчитано, – погружаясь в завораживающие раскадровки удивительных фильмов Юрия Норштейна или постигая вместе с ним суть и смысл любимейших его живописных полотен, рассматриваемых на фрагментарно-кинематографическом уровне (так, к примеру, «Сон, вызванный полётом пчелы…» Сальвадора Дали разложен на полсотни картинок, объясняющих, как пластическое время раскладывается на отдельные образные величины). Или воочию наблюдая за превращением старых фотографий из семейного архива в элементы образного мира «›жика в тумане», великой «Сказки сказок», вот уже четверть века снимающейся «Шинели»…
Можно вбирать в себя этот текст с картинками в качестве серьёзного учебника профессии «режиссура» (а он изначально и создавался в качестве цикла лекций, был даже издан в таковом качестве несколько лет назад ВГИКом, но естественно, не в пример менее роскошно полиграфически) – наследующего по прямой знаменитому шеститомнику Эйзенштейна, что прямо зачислен во вступительной автобиографической заметке в круг учителей автора, наряду с рублёвским «Спасом», «Портретом Мусоргского» кисти Репина и всем русским и европейским авангардом. Здесь есть место и для чисто практической стороны дела, когда речь идёт о зеркале с наружной амальгамой, рир-проекции, световой панели, устанавливаемой на высоте 80 см от пола. Когда раскрываются технологические секреты: предварительно аэрографированный целлулоид помещался над световой панелью, вследствие чего усиливая или уменьшая свет снизу или с боков, мы получали эффект погружения ›жика в туман. А рядом – не менее значимые метафизические соображения об искусстве мультипликации (которая, стоит отметить, ни разу не называется здесь новомодным словом «анимация»), которая для Норштейна меньше всего… кинематограф, ибо объединяет их лишь способ нанесения изображения на плёнку и прокручивания плёнки через проектор – способы химические и оптические. Во всём же в остальном (творец настаивает и доказывает) перед нами совершенно непонятное искусство, и сравнимо оно для меня с театром, но в большей степени прежде всего – с литературой, хотя, казалось бы, природа мультипликации чисто изобразительная.
Такая, как, к примеру, у Гойи, где нигде нет очерченного силуэта. Приграничная зона двух пространств сжимается и расширяется. Она дышит на холсте, и за этим дыханием скрывается линия, которую увидеть невозможно. Её можно только прозреть. Чему «Снег на траве» всячески способствует, предлагая себя неторопливому вдумчивому читателю и в качестве развёрнутого культурологического эссе, бросающего свежий взгляд на творчество признанных мастеров, а также открывающего новых. Вот глава, посвящённая Леониду Ивановичу Соломаткину, русскому художнику второй половины XIX столетия, демонстрирующему такое богатство живописи (качественные репродукции вполне это подтверждают), что на него, по мнению автора, обратил бы внимание сам Делакруа.
Мимо художников Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой – жены, соратника, соавтора, с их пронизывающей оба тома феерической россыпью набросков, коллажей, рисунков, почеркушек на темы будущих картин, он, надо думать, тоже не смог бы пройти. Равно как и все остальные из числа их вечных спутников – Николай Васильевич Гоголь, материк марьинорощинского детства мультипликатора, великие поэты Басё и Хокусай… Точно так же, как не можем не остановиться около этой выдающейся во многих отношениях (в том числе и с точки зрения её цены) книги и мы.

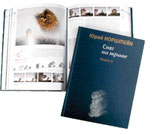 Юрий Норштейн.
Юрий Норштейн.