Наталья Шубникова-Гусева, доктор филологических наук, ИМЛИ РАН
«Со времён Пушкина Россия не знала, наверное, более великого поэта, чем Есенин. …Он воплощает исконные и вечные силы России, введённые в русло и воссозданные духом необычайной мощи». Этот вывод известного бельгийского писателя и переводчика Ф. Элленса, подготовившего первую книгу переводов произведений Есенина Confession d›un voyou («Исповедь хулигана», Париж, 1922) на французский язык, подтверждается конкретными фактами и исследованиями наших дней.
В рамках академической программы изучения жизни и творчества поэта начиная с 1990-х осуществлён выпуск Полного собрания сочинений С.А. Есенина (кстати, единственного и на сегодняшний день академического собрания поэта ХХ века) в 7 томах (9 кн., 1995–2001), Летописи жизни и творчества С.А. Есенина в 5 томах (7 кн., 2003–2018), Есенинской энциклопедии «Памятные места. Литературная география» (2020), в которую вошло 357 статей о 442 реальных и литературных топонимах, географических местах, непосредственно связанных с именем Есенина и отражающих его представление о мире, обществе и родной культуре, в том числе и литературных, вымышленных поэтом: Инония, Страна негодяев.
Параллельно издано 25 научных сборников-спутников «нового о Есенине» и книги, заполняющие «белые пятна»: «Русское зарубежье о Есенине» (в 2-х томах – 1993, 2-е изд. – 2007), «Материалы к биографии» (1993), справочник Н.Г. Юсова «Прижизненные издания С.А. Есенина» (1994), научные монографии и другие. Важно упомянуть тома писем и воспоминаний из четырёхтомника «Сергей Есенин в стихах и жизни» (1995, 2-е изд. – 1997), куда впервые вошли не только письма Есенина, но и письма, адресованные поэту, и многочисленные письма о Есенине, а также неизвестные ранее мемуары.
Естественно, что в комментариях к летописным статьям путём сопоставления критических откликов и мемуаров обозначилась проблема автобиографизма произведений Есенина. Стало очевидно, что литературная биография (биографическая легенда) и житейская биография (реальная бытовая жизнь) – это разные грани, которые не могли различить современники поэта. Порой не различают и сейчас! О том, насколько продумано было поведение Есенина, смена его костюмов (от «пастушка» до цилиндра и пушкинской крылатки), публичные поступки и репетиции перед зеркалом, говорят многие факты, довольно полно изложенные теперь в работах о поэте, и даже строчки самого поэта: «Я хожу в цилиндре не для женщин…»
«Чтобы стать бессмертным поэтом, – заметил Хенрик Виснапуу о Есенине, – следует необычайные стихи дополнить и необычайной жизнью. Есенин сразил всех своих современников и жизнью, и смертью». Жизнь и смерть Есенина всегда будут волновать и тревожить. Скажем прямо: поэту, душа которого заключала в себе все болезни мира, и прежде всего – боль за будущее своей родины, не было места в той жизни. Он чувствовал себя не сыном, а пасынком своей любимой России. Но нас больше всего волнуют его необычайные стихи.
«Большое видится на расстояньи…» Как-то в одну из последних поездок на родину Есенин сказал отцу, что его поймут только через сто лет. Сегодня Есенин – один из родоначальников новейшей русской литературы и реформатор русского литературного языка, один из культурных и образованных людей своего времени. Есенин, открывший, по его собственным словам, «новую полосу в эре искусства», создавший мифопоэтику, в которой ориентировался на «многорукое и многоглазое хозяйство русского искусства». Есенин – лирический и эпический поэт и прозаик, историк русской жизни (автор «Песни о Евпатии Коловрате», «Марфы Посадницы», «Яра», «Пугачёва», «Песни о великом походе», «Поэмы о 36», «Гуляй-поля», «Ленина», «Анны Снегиной»), философ, теоретик искусства, ярко отразивший противоречивую и трагическую революционную эпоху и художественные открытия мировой литературы ХХ века: синтез разнообразных направлений, стилей и жанров в лирике, поэме и драме, документальность и тяготение к иносказанию, притче и другим – и вернувший забытые и утраченные смыслы русского слова в литературу.
Есенин, которого ещё в 1922 году во Франции называли первым поэтом 150 миллионной России, видя в его творчестве то вечное и непреходящее, что будет всегда понятно каждому, и сравнивали с Данте и Шекспиром. Таким, во многом ещё неизвестным, мы стремимся показать поэта на страницах готовящегося в Институте мировой литературы Российской академии наук труда «Есенинская энциклопедия. Произведения», который является необходимым этапом на пути создания большой Есенинской энциклопедии. В него входит около 450 статей, в том числе статьи о частушках и стихах на случай, а также о незавершённых произведениях и даже замыслах.
Есенин предстаёт как великий национальный поэт, имеющий мировое значение. Оно основывается на исследовании его связей с мировой литературой и подготовленной впервые библиографии переводов его произведений за 1920–1927 годы и данных ЮНЕСКО о переводах его произведений на 130 языков. При сотрудничестве с зарубежными коллегами – Г. Маквеем, М. Никё, Е. Шокальским, Д. Кассек, Н. Шром, В. Молодяковым, Х. Табатадзе, А.В. Амелиной и другими – доступные периодические издания 1920-х просмотрены de visu.
Результаты удивляют. Оказалось, что при жизни Есенина его произведения переводились на 17 языков: немецкий, английский, шведский, французский, итальянский, японский, польский, чешский, болгарский, сербский, словенский, украинский, белорусский, латышский, армянский, грузинский и идиш. Всего за обозначенный период выявлено 197 публикаций 93 есенинских произведений (или их фрагментов) на 22 языках, выполненных 95 переводчиками.
Наиболее перспективные идеи ярко проявились в 1920-е годы, когда поэзия Есенина оказалась созвучной творческим поискам и европейских авангардистов, и революционно настроенных писателей, и представителей религиозной философии, когда к творчеству поэта обратились самые известные писатели, критики и переводчики разных стран. Тогда слава Есенина, по признанию французских литераторов, «превзошла сами надежды».
Особое внимание уделяется наиболее перспективным проблемам новаторства поэзии Есенина, выдвинутым в 1920-е годы: органическому синтезу поэтического слова, песенности, живописности, близости к иконописи; национальному характеру имажинизма Есенина; сплаву эмоциональности с философским смыслом, подтекстом стиха. Анализируются скрещение взглядов на синтез стилевых манер, национальный и одновременно универсальный характер творчества Есенина, органично соединившего народную культуру с мировой традицией и современными веяниями духа модерна.
Опыт подготовки «Есенинской энциклопедии. Произведения» показал, что раскрытие авторского замысла строится на изучении рукописей всех завершённых произведений, отрывков и набросков, которые были малоизучены или недоступны и вошли в научный оборот лишь после выхода в свет Полного собрания сочинений С.А. Есенина. Среди них – 7 неизвестных стихотворений Есенина 1910 года, отрывки из поэмы «Гуляй-поле» и повести «Когда я был мальчишкой» (оба 1924), обнаруженный «лондонский» автограф «Пугачёва» (1921), неотправленное письмо С.А. Есенина Л.Д. Троцкому (1923) и другие. Работа с доступными на сегодняшний день документами и рукописными источниками текста помогает существенно расширить наше представление о поэтике и контексте многих произведений Есенина.
Особое значение приобретает изучение исследовательской литературы о каждом произведении. Впервые проанализированы ранние рукописные поэтические сборники поэта «Больные думы» (1912) и «Зарянка: Стихи для детей» (1916), реконструированы последние циклы поэта «Зимний цикл» и «Стихи о которой» (1925), по-новому раскрыты многослойные философские произведения от «Голубени» и «Песни о хлебе» до «Сказки о пастушонке Пете…»
Стремление быть «цветком неповторимым» было органично присуще Сергею Есенину. Оно парадоксально сочеталось с острым вниманием к философской и литературной традиции. В своё время Ю. Тынянов заметил, что Есенин «кажется порою «энциклопедией от Пушкина до наших дней»». Теперь мы убедились, что поэт при этом крайне индивидуален. Ещё М.Л. Гаспаров убедительно показал, что в первом опубликованном под псевдонимом Аристон стихотворении «Берёза» (1913), обращённом к классической традиции, поэт ярко выражает свою индивидуальность. Рассмотрев семантический ореол трёхстопного хорея, каким выполнено стихотворение «Берёза», учёный напомнил, что М.Ю. Лермонтов в подражание «Ночной песни странника» И.В. Гёте (1780) в 1840 году написал своё знаменитое восьмистишие «Горные вершины / Спят во тьме ночной…» «С этого лермонтовского стихотворения началась, можно сказать, история трёхстопного хорея в русской поэзии; более ранние образцы его, за редкими исключениями, забылись». Есенин смело преодолевает сложившийся вокруг трёхстопного хорея, каким писали И.А. Бунин, В.Я. Брюсов, С.М. Городецкий, С.Д. Дрожжин, Д.Д. Бурлюк и другие, печальный и мрачный ореол и создаёт единственное «солнечное» стихотворение.
«Крайне индивидуален» – так сам Есенин определил свою творческую манеру в автобиографии 1923 года, выделив эти слова в отдельный абзац. Вскоре после смерти поэта, в 1926 году, В.В. Маяковский, пытаясь найти причины его «чудовищной популярности», высказал мысль о том, что вопрос о Есенине – это вопрос о форме, «вопрос о подходе к деланию стиха так, чтобы он внедрился в тот участок мозга, сердца, куда иным путём не влезешь, а только поэзией».
Неслучайно признание исследователей, что перед лицом есенинской поэзии «формальная оценка кажется ненужным делом…» и «обычный анализ бессилен», потому что в ней, как правило, заложен намёк на то, чего нет и не может быть в словах. Писатель Ю.В. Мамлеев в начале ХХI века пришёл к выводу, что Есенин раскрыт лишь наполовину. И с этим можно согласиться и сегодня.
Я уже писала, что данные о датировке третьего и четвёртого стихотворения поэтического цикла «Любовь хулигана» (1923) с общим посвящением «Августе Миклашевской» заставили задуматься. Оказалось, что Есенин датировал стихотворение «Пускай ты выпита другим…», где появляется обращение к своей спутнице жизни – «сестра и друг», днём переезда к Галине Бениславской, которая воплощала этот жизненный идеал поэта. Дата этого события – 27 сентября – под вопросом зафиксирована в летописи. Ещё ярче реальные чувства и обстоятельства отразились на содержании четвёртого, центрального стихотворения цикла «Дорогая, сядем рядом…» с мотивом «любви – спасенья», датированного самим поэтом 9 октября. Накануне Есенин послал А. Дункан телеграмму: «Я люблю другую женат и счастлив», а 9 октября телеграмму Дункан со словами: «он со мной, к вам не вернётся никогда…» послала Бениславская. Так «жизненная подкладка» (реальная биография), без которой, по словам современников, поэт писать не мог, наложилась на поэтическую историю любви (литературную биографию), на ту жизнь, которая, по словам поэта, «былой не была».
Приёмы свойственной Есенину поэтики наложения проявляются во многих произведениях поэта. Наиболее выразительно – в цикле «Москва кабацкая» и в «Анне Снегиной», где образ главной героини составлен из трёх обликов: Анны Сардановской, девушки в белой накидке, Л. Кашиной и О. Снегиной.
Выяснилось, что творческую историю мини-цикла из двух стихотворений «Весна на радость не похожа…» и «Ещё не высох дождь вчерашний…» (1916), развивающего традиции лучших образцов дружеского послания русских классиков, прежде всего А.С. Пушкина, Есенин тщательно «зашифровал». К анализу мини-цикла в Есенинской энциклопедии привлечена вся совокупность имеющихся фактов, текстов и документов (прежде всего рукописей) и характеристика первой публикации в благотворительном сборнике «Пряник осиротевшим детям» (1916). Показано, что трагические обстоятельства биографии адресата Л. Каннегисера, посвящение которому имелось в автографе, впоследствии зачёркнутое (адресат убил М.С. Урицкого и был расстрелян в 1918 году), обусловили дальнейшую судьбу произведения. Посвящение не печаталось. Второе стихотворение после 1916-го Есенин не публиковал и не включил в своё трёхтомное, подготовленное им при жизни Собрание стихотворений (1926). В нём явно говорится о возможной смерти друга, которому адресовано это послание. «И если смерть по Божьей воле / Смежит глаза твои рукой, / Клянусь, что тенью в чистом поле / Пойду за смертью и тобой».
Содержание первого стихотворения до сих пор вызывало вопросы. Одни авторы на основе сходства поэтического пейзажа с реальными приметами «тропы Панфилова», по которой Есенин обычно провожал друга из школы до «родительской избы», считают, что стихотворение посвящено Грише Панфилову, хотя тот умер за два года до описываемых событий. Другие следуют авторской воле, выраженной прежде всего в автографе и первой публикации и посвящении «Л. Каннегисеру», имя которого до 1990-х гг. не упоминалось в отечественной печати.
С учётом авторской воли забытый мини-цикл Есенина анализируется как цельное произведение, обладающее идейно-художественным единством: общей темой дружбы, общими образами, мотивами и ритмикой. Раскрывается используемая Есениным «поэтика наложения», позволяющая понять многозначный подтекст зашифрованного автором лирического шедевра.
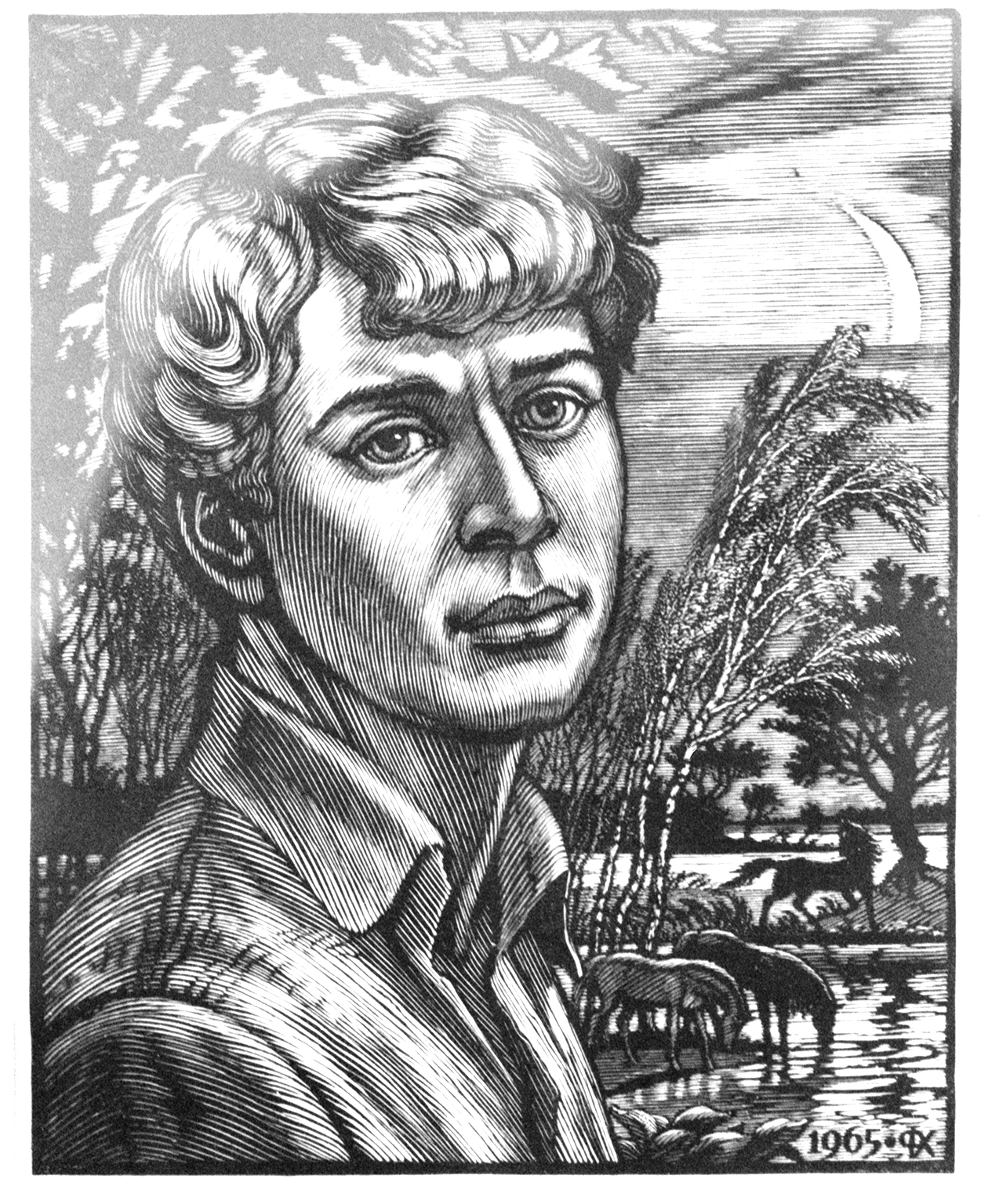
* * *
Весна на радость не похожа,
И не от солнца жёлт песок.
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.
У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.
Речь идёт о прогулке с новым другом, отражена характерная черта его портрета: «обветренная кожа / Лучила гречневый пушок» (Гриша был русым).
Чувство возможной потери вызывает у героя стихотворения воспоминания, подобие сна «в дрёме зыбкой», о последней встрече с другим, ушедшим из жизни другом юности. Образ двоится. Есенин возвышает возникшее дружеское чувство к Леониду Каннегисеру до «светоча своей юности» – Гриши Панфилова, потому поэтический мини-цикл представляет собой не только посвящение Л.И. Каннегисеру, но и пожелание всем детям иметь такого друга. Это придаёт дружескому посланию универсальный характер и соответствует благотворительному характеру сборника «Пряник осиротевшим детям», в котором впервые был опубликован этот цикл.
Чаще всего Есенин играет на многозначности порой забытых русских слов и поверий, как правило, содержащих противоположный смысл. Философское стихотворение «По-осеннему кычет сова…» (1920) написано, по словам Мариенгофа, «с маху» после выдумок о «несуществующих серебряных пятачках <плешинках>» в редеющих волосах. Произведение построено как иносказательный портрет лирического героя, используя многозначный образ-оборотень кричащей совы («По-осеннему кычет сова») и «речевой атрибут лешего («полевое, степное ку-гу»). В русском фольклоре сова символизирует мудрость, в литературной традиции – одновременно зловещее предсказание.
А.Н. Афанасьев писал: «…любопытные поверья соединяет народ с осиною – деревом, за которым усвоены мифические свойства едва ли не вследствие родства его имени со словом ясень». Свою фамилию поэт считал древнерусскою и производил «от корня осень», созвучной с ясенем (дед Есенина до революции подписывался А.Н. Ясенин). Поэт знал мифы и поверья об этом священном дереве и отразил их в своём творчестве, заметив в «Ключах Марии»: «Скандинавская Иггдразиль – поклонение ясеню – то дерево, под которым сидел Гаутама». В славянской мифологии осина занимает одно из центральных мест, причём, с одной стороны, наши предки делали из неё обереги, а с другой – связывали дерево с нечистой силой и называли проклятым. Так, отражая переживания лирического героя, Есенин поднимает сложнейшие социально-философские проблемы, соединяя сквозные мотивы прощания с молодостью и желанием понять своё место в будущем собственной страны («Без меня будут юноши петь, / Не меня будут старцы слушать»).
Сегодня Есенин вышел далеко за рамки новокрестьянской поэзии и «органа, созданного природой» и предстал одной из ярчайших фигур литературы Серебряного века, поэтом-новатором, одним из наиболее сложных и глубоких поэтов своего времени. Постижение творчества Есенина с его органичной образностью, внешней простотой и сложным философским подтекстом бесконечно. Идеи универсальности, близости к иконописи, многозначности и полифонизма, философской мысли и новаторства поэтического языка становятся в наши дни предметом научных исследований. Готовятся отдельные тематические выпуски Есенинской энциклопедии, посвящённые произведениям и биографии. В будущем нас ждёт ещё немало открытий.

