Будьте как эти, или Грудь четвёртого человека
Асан: Роман. – Знамя, № 8– 9, 2008.
Живая очередь: Повести и рассказы. – М.: Вагриус, 2008. – 368 с.
Будьте как дети: Роман. – М.: Вагриус, 2008. – 400 с.
Премия – санитар литпроцесса. Особенно большая. Большую-то абы кому не назначат!.. И если раньше в поисках ответа на вопрос «Что почитать?» приходилось перелопачивать груды бумаги, то теперь всё лучшее как на ладони умещается в «шорт-листе». Равнение на финалистов «Большой книги»! Сегодня их будет трое. А чтобы держать строй, нужно видеть грудь четвёртого человека…
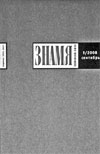 ИЖЕ ХЕРУВИМЫ
ИЖЕ ХЕРУВИМЫ
«Ну как? Слышал уже? «Большую»-то Маканину будут давать. В председателях жюри нынче Битов, а когда Маканин председателем был… в общем, давать – будут!»
Оглушённый этими литературоведческими раскладами, сел читать. То так поверну страницу, то эдак. Ощущение «не большой, а очень большой книги» (по выражению флагмана отечественной критики А.С. Немзера) не возникает. Возникают вопросы.
Зачем Владимир Маканин в романе «Асан» снова возвратился к чеченской теме? «Не могу молчать»? Вряд ли. Когда не могут, получается по-другому. «Потому что рука набита»? Эту требующую большой творческой смелости гипотезу (нужно было срочно изваять что-нибудь «актуальное» под премию) оставим более информированным товарищам…
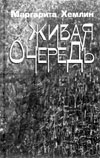 Будем исходить из предположения, что Маканин понял о чеченской войне нечто особенное, масштабное, видное лишь художнику и только на расстоянии. Ну вроде как Виктор Пелевин регулярно понимает всё-всё о нашей непростой жизни и раз в два года отливает в свинцовые формы слов.
Будем исходить из предположения, что Маканин понял о чеченской войне нечто особенное, масштабное, видное лишь художнику и только на расстоянии. Ну вроде как Виктор Пелевин регулярно понимает всё-всё о нашей непростой жизни и раз в два года отливает в свинцовые формы слов.
Итак. Некто Жилин (о преемственность!..) начальствует над военным складом горюче-смазочных материалов. Нефть – это «кровь войны», а чеченцы, как известно, «хотят крови». Ею и заведует майор Жилин, представляющий в конфликте цивилизаций Россию, или «Акционерное общество по продаже энергоресурсов», как выражаются наши критики правящего режима. Реальная война сводится к «бизнесу», как и вся вообще мировая политика. А стрельба, засады, зачистки – просто атрибутика, вроде как официальные дипломатические ноты – фиговый листок реальной политики.
Это удивительное открытие подаётся скромно, исподволь, без пелевинского напора. Хотя и Маканин не удерживается от красивой и всем понятной, как русалка на коврике, метафоры: древнее полузабытое божество вайнахов Асан требует одной рукой крови, а другой – денег. (Это если вдруг кому не понятно, что кровь в  конечном счёте и есть деньги, по нашим-то циничным временам.) Тяготясь «популярностью» своей метафоры, автор вкладывает её в уста слегка комичного персонажа. Мог бы вообще выбросить, но тогда и хлёсткое название пропадёт. Тем более что Александр Сергеевич Жилин тоже, если скороговоркой, Асан. Выходит, русский гяур – это бессознательный кошмар чеченца, равно как и злой чечен с ножиком – излюбленный жупел русского. И шире: Россия – внутренний психический комплекс остального мира, равно как и остальной мир – комплекс России. Страшно жить на белом свете, господа!..
конечном счёте и есть деньги, по нашим-то циничным временам.) Тяготясь «популярностью» своей метафоры, автор вкладывает её в уста слегка комичного персонажа. Мог бы вообще выбросить, но тогда и хлёсткое название пропадёт. Тем более что Александр Сергеевич Жилин тоже, если скороговоркой, Асан. Выходит, русский гяур – это бессознательный кошмар чеченца, равно как и злой чечен с ножиком – излюбленный жупел русского. И шире: Россия – внутренний психический комплекс остального мира, равно как и остальной мир – комплекс России. Страшно жить на белом свете, господа!..
В общем, понял Владимир Маканин об этой войне ровным счётом то, чему нас учили последние двадцать лет средства массовой информации: всё ложь и обман, потому что нет в человеческой природе того упора, с которого начинается не терпящая обмана правда. Мал «человек хороший». Да и за что воевать-то: если кто и виноват в чём, так только мы сами, недаром жалостливый майор Жилин гибнет по вине своих же солдатиков. (Один из них, кстати, оказался родственником резвого старичка из предыдущего маканинского романа «Испуг» – тесен мир, историй всего четыре.)
 Написанный, по слухам, довольно быстро, «Асан» заметно уступает в красоте слога своему выдавленному по капле предшественнику. Материал сопротивляется. «Хорош трусить», – говорят друг другу в экстремальных ситуациях военнослужащие срочной службы. Прямо как в фильме «Солдат Иван Бровкин». Помнится, один наш писатель-фантаст взялся описать XIX век. В первом же абзаце гувернантка у него говорит: «Дети, довольно шалить». Столь бронебойная аутентичность («Соблаговолите отведать; спасибо, изрядно сыт») напомнила мне беседу булгаковского режиссёра Якина с Иоанном Грозным: «Паки… паки… иже херувимы»… Следующего абзаца я не осилил.
Написанный, по слухам, довольно быстро, «Асан» заметно уступает в красоте слога своему выдавленному по капле предшественнику. Материал сопротивляется. «Хорош трусить», – говорят друг другу в экстремальных ситуациях военнослужащие срочной службы. Прямо как в фильме «Солдат Иван Бровкин». Помнится, один наш писатель-фантаст взялся описать XIX век. В первом же абзаце гувернантка у него говорит: «Дети, довольно шалить». Столь бронебойная аутентичность («Соблаговолите отведать; спасибо, изрядно сыт») напомнила мне беседу булгаковского режиссёра Якина с Иоанном Грозным: «Паки… паки… иже херувимы»… Следующего абзаца я не осилил.
И ничего – выдвинули на «Национальный бестселлер» фантаста-то!
Дать, правда, не дали.
ПРО ЛЮДЕЙ
Книга Маргариты Хемлин «Живая очередь» – о евреях. Так сказать, «художественно-этнографическое исследование». «Попытка разглядеть в череде частных судеб черты коллективной судьбы».
Попытка на первый взгляд неудачная. Никаких типических коллективных черт обнаружить не удаётся. Обидно. Скорблю о сцене, якобы вырезанной из фильма «Мимино»: Валико и Рубик-джан едут в лифте после скандального выселения из гостиницы, с ними двое японцев. Пауза. Один японец бормочет что-то другому. Звучит перевод: «Эти русские все на одно лицо»…
Это хорошо, когда на одно. Это понятно. Я бы с удовольствием собрал коллекцию таких книг – чтобы как в фонтане «Дружба народов»: украинка в веночке, русская в кокошнике, узбечка с тоненькими косичками… Понятно. А у Хемлин – не очень. Люди как люди. Ничего «специфически еврейского» в них нет. Как нет ничего «специфически русского», допустим, в «чудиках» Шукшина.
Тьфу, да о чём я!.. Как раз в «чудиках» русского – ложкой ешь. Тут и правдоискательство, и пресловутое «желание праздника», то есть волшебной щуки, и мечтательность – стремление выйти за определённые средой рамки… Это если сокращать дробь, выпаривать до сухого остатка.
Попробуем «сократить» Хемлин: «В очереди познакомились, показалась женщиной приличной, а она их сына на себе женила, а сама-то ведь старше и не постыдилась, а свёкор с ней в сарае потом, ну и родила мужу братика, ох-ох-ох, всё равно все умерли от Чернобыля…»
Что это? «Санта-Барбара»? Не совсем.
Был такой писатель Юрий Трифонов, творивший в эпоху, когда советскому народу не показывали ещё интересных и полезных для общественного здоровья телесериалов, а смотреть их уже хотелось. Феноменальный успех своего первого романа «Студенты» сам Трифонов объяснял следующим образом: «Тогда ж все про войну писали, а людям страсть как охота было про мирную жизнь. С душком, а не силой духа». (Цитата вымышлена, но нечто подобное Трифонов и впрямь писал в воспоминаниях о Твардовском.) Мирный и уютный «душок» вошёл тогда в резонанс с коллективным бессознательным массового читателя. «Тёща, свекровь, свекровь, тёща» – на сих четырёх китах зиждился феномен пресловутой «городской прозы». «Брали по двадцать, пятёрка сверху», «Устроили большой бенц», «Давайте обща». И, конечно, идея: «Слабый человек подлецом быть не может». Зародыш постсоветского интеллигентского либерализма. На язык важнейшего из искусств её, эту идею, овладевшую массами, перевёл дуэт Брагинский – Рязанов.
Последние десять лет «Трифоновым в юбке» работала Людмила Улицкая. Работала с переменным успехом: скажем, «Даниэль Штайн…» – явное отступление от чистоты жанра поучительной бытовой драмы и злоупотребление кредитом читательского доверия. Хотя с другой стороны, на то и кредит, чтобы тратить. А народ по-прежнему любит «бытовую драму» до самозабвения – как присловье «картина маслом» из лучшего на свете (и, конечно же, в истории человечества) фильма «про Гоцмана». Народ любит её настолько, что готов вместить в сердце целую гигантскую индустрию «женского иронического детектива», паразитирующую на традиции бытовой драмы (ничем таким особенно детективным эта индустрия не блещет, а вот «в очереди познакомились» и «тёща, свекровь, свекровь, тёща» – этого там хватает, да).
Маргарита Хемлин вошла в эту обойму с элегантным щелчком: рубленная довлатовско-жванецкая брутальность фразы так и просится на эстраду, в лучи софитов, в застольный пересказ, в «устную городскую традицию». Хороша также веллеровско-довлатовская интонационная многозначительность – там, где всё понятно и никаких «дополнительных смыслов» быть не может, но зато может быть «послевкусие»: вроде как на что-то намекнули тебе. Читатель ценит это, считает уважительным отношением к себе и признаком умной литературы. Думаю, у «городской прозы» Маргариты Хемлин большое будущее.
А что касается «специфических» национальных черт… Так как раз они-то в книге и выражены. Помните, у Рене Магритта: изображение курительной трубки и подпись: «Это не трубка»? Специфические черты часто оказываются не тем, чем кажутся.
КАК МЫЧАНИЕ
У Владимира Шарова, автора романа «Будьте, как дети», репутация непростого писателя – читать таких нужно осторожно, с оглядкой, чтоб не попасть впросак. Однако как я ни старался, не получилось. Всё было на редкость понятно и просто. Рукава закатаны, следим за руками.
Берётся отправной образ – в данном случае евангельская цитата. А дальше наугад, на ощупь вытаптывается контекст. «Дети, дети… крестовый поход детей, крестный ход… дети безгрешны, но чем дальше, тем меньше… А блаженные, юродивые – не те же самые дети ли? Бывают ещё целые народы «как дети» – первобытные, например… Выходит, миссионеры их совращают? Ладно, вернёмся к детям. Пешком в Иерусалим дойдёшь ли? Всё равно что по воде в град Китеж… А когда замёрзнет, зимой? На Крайнем Севере, кстати, полно этих самых народов… Блаженны нищие – им нечего терять, прямо как пролетариату. Пролетариат, Ленин в Горках. Ленин и дети. «Конкурс чистых тарелок». Дзержинский, «друг беспризорников». Блаженны нищие дети… Интернат для нищих духом детей – школа для дураков. Где? В Ульяновске, разумеется…»
Так, вокруг цепочки случайных, подчас бредовых ассоциаций и нарастает фабула. Куски её сшиты наспех, ленивой ниткой: сюжет как дань литературной условности для автора совершенно не важен – он пишет не роман, а эссе. Романный жанр здесь – стилизация, мимикрия. И одновременно защита от парафраза. Ловушка для критика, который по определению обязан уметь в двух-трёх фразах «объяснить» произведение. К двум-трём фразам свести всё то, что писатель, дурачок, много лет размазывал по страницам.
Вот и «просак», пожалуйте… Не могу объяснить. А ведь роман-то (ну или «эссе», ладно) по разряду философских проходит – объяснять надо! А не могу. Для этого пришлось бы шаг за шагом пересказать все двести страниц, каждый мотив, каждую линию. И бедные рецензенты именно так и делают – пересказывают. Отчаянно путаясь в перекрёстных ссылках: мол, сперва герой много пил и заполучил эпилепсию, а потом попал на Север, где у вымирающих малых народов самой счастливой считается смерть от водки, но сначала, в дурдоме, тронувшийся историк рассказывает ему… А может, не рассказывает? Может, герой тоже от пьянства умер, и всё прочее ему, как набоковскому Соглядатаю, только кажется? Ах если бы.
Ох-хо-хо…
Шарову при всём его кажущемся небрежении «художественной формой» удалось добиться того эффекта, который нобелевский лауреат Октавио Пасс приписывал высшей из всех «форм» – поэзии: «Объяснить нельзя, понять можно».
Всё точно. Можно заплутать, завязнуть и утонуть, как в болоте: медленно, безвозвратно, несправедливо. Чтобы потом прийти в себя, отшвырнуть, плюнуть, вынырнуть, как из сна, задышать, забыть. И унести на сердце зарубку, из которой лет через пятнадцать-двадцать разовьётся полноценный инфаркт. А пока – вот оно, обещанное лауреатом понимание: нельзя, нельзя «быть как дети». Всё равно не получится. Даже у детей не получалось, когда их заставляли «как дети» быть. Они ведь потому и безгрешны – до той поры, пока мы находим в себе силы быть взрослыми.
Как там говорится-то… «Довольно шалить»!
Негоже на чужой крест зариться.

 ев ПИРОГОВ
ев ПИРОГОВ