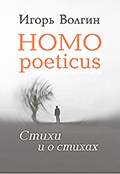
Игорь Волгин. Homo poeticus. Стихи и о стихах. – М.: Академический проект, 2021. – 571 с. – 1000 экз.
В новой книге Игоря Волгина собраны и ранние стихи, и написанные уже в новом тысячелетии, и отзывы как о поэтах прошлого века, так и о современниках.
В предисловии автор пишет, что между ранними его стихами и стихами более поздней поры существует длительный, почти тридцатилетний перерыв, заполненный его изысканиями в качестве историка литературы, а также трудом в качестве руководителя литературного объединения «Луч», возраст которого перевалил уже за половину века. И действительно, количество состоявшихся поэтов, прошедших через его поэтическую «школу», беспримерно, и вряд ли кто из руководителей семинаров поэзии мог бы с ним сравниться.
Столь же уникальна деятельность Игоря Волгина в качестве президента Фонда Достоевского, ежегодно проводившего одноимённые конгрессы и собиравшего на них писателей и учёных со всего мира.
Поражают и книги Игоря Волгина о Достоевском. Это внушительные исследования «Последний год Достоевского», «Родиться в России. Достоевский: начало начал», «Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот» и другие, которые под художественным писательским пером, не теряя своей научной скрупулёзности, представляют собой образец исторической прозы и читаются как романы.
Кроме того, плодом активного участия Игоря Волгина в культурных и социальных событиях современности стал том его публицистики, а также цикл передач «Игра в бисер» на телеканале «Культура», побуждающих зрителя обратиться к литературной классике и заново осмыслить её.
Так что объяснима длительная пауза в его поэтическом творчестве. Однако позднее Игорь Волгин выпускает книгу за книгой новых стихов («Персональные данные», «Толковый словарь»), а затем собирает воедино все плоды своего поэтического вдохновения.
Таким образом, нам предложено проследить его творческий путь, который начинался с поэтики, топики и интонации поэтов-«шестидесятников» с характерными для них корневыми рифмами (политику – поллитрами, петарды – пираты, пристань – принцы, истории – источники, женщин – жемчуг), риторическими фигурами («Девчонки, думайте о принцах…»), публицистичностью («Моё поколение») и узнаваемыми бытовыми деталями («Заложено-перезаложено в ломбарде мамино пальто»). Возвращение к стихам после затянувшейся разлуки с ними обернулось и обновлением стиля.
Обширность и глубина гуманитарных познаний, объём исследований по русской литературе и истории, богатый жизненный опыт обогатили стихи, как и обострили внутреннее зрение, позволяющее видеть глубже и чувствовать тоньше, проникать в тайны веков, распутывать узлы, понимать, чувствовать и сопереживать своим героям.
Сочетание иронии, порой граничащей с сатирой, и горечи, самоиронии, лёгкости и глубины, виртуозное владение поэтическими инструментами: умение так интонационно повернуть стихотворение, высветить, вдохнуть в него жизнь и новизну, заставить точную рифму заиграть, обходя банальность; сочетать трезвое осмысление происходящего и художественное обобщение – делают Игоря Волгина не просто заметной, а значительной фигурой в пространстве современной поэзии. Да и сам он наслаждается своим вновь обретённым поприщем: «Дрожит душа моя, / Нежна и тростникова».
В этих стихах органично переплелись душа и стихия: культура претворилась в природу, вошла в её состав, а природа сделалась словесной, стала фактом культуры. Но поперёк этой органической жизни встаёт «огненный век», жестокий и к природе, и к культуре, и к самому человеку.
Игорь Волгин живёт, безусловно, «чуя» под собой страну и эпоху. Однако если его раннее творчество носило на себе оттенок публицистичности, то стихи «этого века» включили данное чувство в сам состав его поэзии.
С кем обручён этот огненный век,
Кто сей избранник –
То ли Нерон,
То ли Вещий Олег,
То ли торфяник.
Что же нам делать спасения для
Порознь и свально,
Если горит под ногами земля,
То есть буквально.
Игорь Волгин мучается гамлетовым вопросом о том, что распалась связь времён. Он силой своего слова и мироощущения пытается связать эпохи, перенося ценности былой цветущей культуры в наш прагматичный мир и бездушный циничный век, задавая тон и изливая горечь и боль за страну:
…Восходит красная луна
над укороченною сушей.
Прощай, нелепая страна, –
мы жертвы собственных бездуший.
…Твой путь и светел, и кровав,
и, словно древние этруски,
мы канем в вечности без прав
хотя б отпеть тебя по-русски.
Если можно было бы поставить эпиграф к книге «Homo poeticus», я бы выбрала вот этот, из Николая Гумилёва:
Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда –
Всё, что смешит её, надменную,
Моя единая отрада.
Победа, слава, подвиг – бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.
Вот и в стихах Игоря Волгина гремят, «как громы медные», эти слова: «победа», «слава», «подвиг».
Да и Гумилёв тут вспоминается не случайно, поскольку поэзии самого Игоря Волгина свойственна гумилёвская твёрдость и точность слога, порой жёсткость и мужественность поэтического высказывания. Впрочем, как и пристальное внимание к художественной детали, вообще – к художественной форме, не терпящей жеста, летящего мимо смысла, и неряшливости рифмы. Подлинное мастерство состоит ещё и в том, чтобы сделать рифму «деликатной», даже при всей своей новизне (горы царь – рыцарь, аусвайса – оставайся, Север – never, алмазах – Карамазов, тютчево-блоково-фетово – фиолетово) не выпирающей из материи стиха, а органичной и, при всей своей точности и простоте, не банальной.
Говоря о художественном методе Игоря Волгина, как не вспомнить строку Ходасевича: «И каждый стих гоня сквозь прозу»: подчас поэт «заземляет» стихотворение, не чураясь таких «непоэтических» слов, как «родовспомогательная часть», «противотанковый коктейль», а также названий и аббревиатур. Или заканчивает стихотворение о смерти родителей почти протокольной фразой:
Они ушли в две тысячи втором.
А я живу. И ничего такого.
И мир не рухнул. И не грянул гром –
лишь Сколковом назвали Востряково.
Игорь Волгин убеждённо настаивает на том, что причастность к русской поэзии – это наш самоидентификационный маркер.
«Попробуем из России «вычесть» Пушкина, Тютчева, Некрасова, Блока, Мандельштама и др. – это будет совсем другая страна», – пишет он. Иосиф Бродский утверждал, что «поэзия не развлечение и даже не форма искусства, но скорее наша видовая цель. Если то, что отличает нас, людей, от остального животного царства, – речь, то поэзия – высшая форма речи». Игорь Волгин, вводя новое обозначение человека «Homo poeticus» («Человек поэтический»), воспроизводит эту мысль Бродского и уточняет её, прилагая к поэзии русской, в которой, возможно, как ни в чём другом, выразилось национальное самосознание.
И в то же время поэзия – дело аристократическое, считает поэт. А аристократизм не нуждается в самоутверждении и конкуренции, дух которых часто обуревает начинающих стихотворцев.
Этот мальчик желает пробиться,
примелькаться, вписаться в строку,
удостоиться званья провидца,
очутиться в известном кругу.
Сам Игорь Волгин представляет в своих стихах образец такого аристократизма – простоты, за которой, однако, угадывается «цветущая сложность» его внутреннего мира и обаятельная самоирония:
Я стихи пишу традиционно,
строю их в колонны и в каре.
Тупо ставлю, как во время оно,
точки, запятые и тире.
…И туда, отнюдь не корча целки,
двинусь я, не тратясь на бензин,
в упованье, что мои безделки,
может быть, оценит Карамзин.
В «Стихах этого века» много таких, которые были написаны поэтом на смерть родителей и друзей – Евгения Евтушенко, Георгия Гачева, Юрия Карякина, Льва Аннинского, отчего тема смерти, оттеняющей жизнь, стала одной из главных в этом разделе книги. Однако здесь умершие – совсем не мёртвые, пока они по-прежнему живут в нас:
Смысл творения неведом!
И отнюдь не по прямой
мы с покойником-соседом
возвращаемся домой.
Там огонь затеплят рано,
и под пение харит
там покойница Светлана
нам картошечку сварит.
«Поэзия, – пишет Игорь Волгин, – кратчайшее расстояние между любыми точками пространства и времени, между любыми мировыми значениями, между ближайшими и отдалённейшими предметами». Он выбирает в свои собеседники и персонажи не только умерших друзей и собственных предков, но и Пушкина, Боратынского, Достоевского, Гоголя, Толстого, Чехова, Карамзина, Заболоцкого, и Языкова, и Мандельштама, не говоря уже о современниках – Слуцком, Самойлове, Бродском.
Со стихами, где упомянуты эти писатели, прекрасно сочетаются и эссе о них, в которых тонкий анализ их творчества увязан с личными впечатлениями автора. Homo poeticus впускает в свой мир всех, подобных себе, ибо, как пишет Игорь Волгин, Поэзия соединяет самым верным и самым непостижимым образом две истины: «В начале было Слово» и «Бог есть Любовь».
Поэтому главным способом преображения реальности, её благого переустройства и соединения прошлого и будущего, как и залогом бессмертия, остаётся творчество. Его утешительная гармония.
Был ли ты счастлив по жизни? Всё это цветочки,
ибо ничто не сравнится с явлением строчки,
лишь бы явилась, а там хоть трава не расти –
можно на лютне играть иль народы пасти.
Игорю Волгину она, поэзия, явилась! И все ипостаси его творческой жизни – поэта, историка литературы, мыслителя, общественного деятеля, наконец, учителя – соединились и обогатили её.

