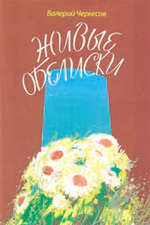
Валерий Черкесов. Живые обелиски: стихотворения и поэма. – Белгород: Изд-во Сангалова К.Ю., 2020. – 126 с.
В предисловии автор пишет, что поэтические произведения, которые вошли в книгу, слагались более полувека.
Ещё в двадцатилетнем возрасте у Валерия Черкесова «выдохнулось» стихотворение «Память детства», как отклик на великую песню «Священная война». Завершается оно так:
Эта песня – болью
Навсегда во мне.
Третье поколение
Помнит о войне.
Под поколениями, на мой взгляд, написавший эти строки понимал: первое – это те, кто участвовал в Великой Отечественной войне; второе – кто родился в годы лихолетья; третье – появившиеся на свет в первые мирные годы.
Слипшиеся леденцы
тают в ладошках.
Мальцы,
делим их честно, по-братски,
словно паёк солдатский,
и запиваем водою
из фляжки с осколочной вмятиной,
и гордимся страною,
где есть такая вкуснятина.
В стихах Валерия Черкесова по праву «поселились» участники и свидетели войны, в том числе и его родные: дедушка, работавший на железной дороге, по которой шли на фронт и с фронта поезда; мама, девчонкой тягавшая неподъёмные рельсы и шпалы; отчим, юнгой сражавшийся с врагами на Тихоокеанском флоте… Строки о людях, живших в то время, пожалуй, самые проникновенные в книге.
…А ночью хрипит он:
– Салаги, ни шагу
назад! –
и рыдает, как тихоокеанский шторм.
( «Отчим»)
Ещё одна болящая память Валерия – его «однокрылость» безотцовщины:
Отец, которого я не знал,
на сопках Маньчжурии воевал,
наверное, храбро, раз помнит мама
медаль «За отвагу»
на его гимнастёрке –
несколько граммов литого металла
да ещё черёмухи запах горький,
когда, одиноким подругам на зависть,
он у Амура её обнимал –
это всё, что на память осталось
мне от отца, хоть его я не знал.
Переехав с Дальнего Востока на Белгородчину, он увидел следы минувшей войны, почувствовал её огневое и ледяное дыхание и понял, что истоки мужества, героизма, стойкости и терпения нашего народа – в исторической преемственности. Поэт стал больше писать о далёком прошлом: «Над «Словом о полку Игореве», «Поле Куликово», «Дозор» и др. Слагались и стихи о тревожном настоящем: «Афганцы», «Кавказское эхо», «Боль за Украину».
В каждом из трёх разделов: «Пацан поры послевоенной», «Камни заговорили…», «Я за Русь поднимусь» – есть стихи, берущие за живое. В лучших из них «зазор» между словом и жизнью минимален, что весьма ценно в наше время. У стихотворений есть своё, присущее только Валерию, «неровное дыхание». Он чередует рифмованный, белый, свободный, акцентный, неметрический фразовый стих для создания зримых образов. К примеру, в поэме «Камни заговорили.», посвящённой легендарной битве под Прохоровкой, стихотворения органично соседствуют с явно прозаическими вкраплениями, не вызывая у читателя чувства «разрыва ткани» повествования.
Каждое мирное поле России
может стать ратным полем,
если это
потребуется Родине.
Отрадно, что в наше «непоэтическое» время не иссякает число тех, кто дерзает свидетельствовать «о времени и о себе».
Владимир Шемшученко

