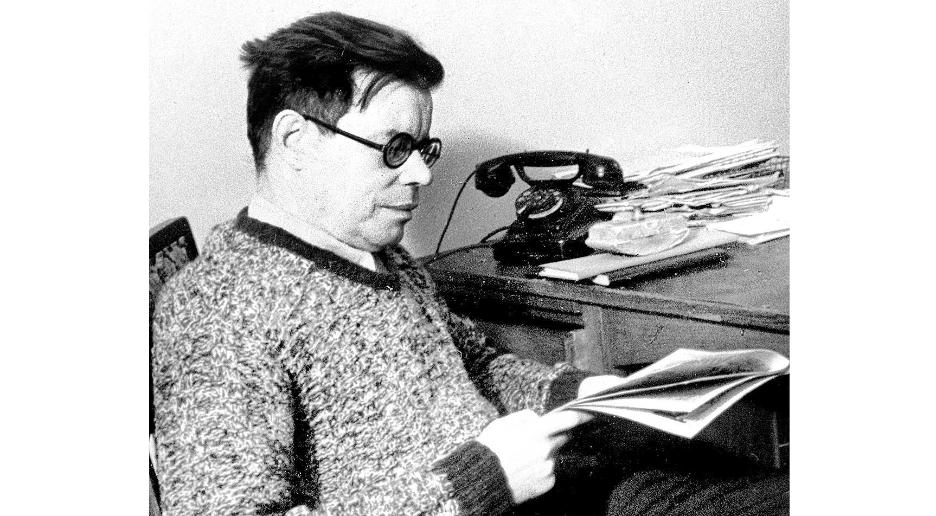В воспоминаниях Константина Ваншенкина приводится следующий примечательный эпизод: «Я вспомнил к чему-то и сказал, что тяжело болен Исаковский. Слуцкий заметил в ответ:
– Жаль. Поэт замечательный…
Не представляю себе, чтобы кто-нибудь из его предвоенной компании, из его генерации, мог так сказать».
Остановимся на этом подробнее. Слуцкий и его «предвоенная компания» (П. Коган, М. Кульчицкий, Н. Глазков, молодой Д. Самойлов и др.) – младшее поколение русского авангарда, прямые ученики конструктивизма и отчасти футуризма, прежде всего таких поэтов, как Сельвинский, Маяковский и Хлебников. Говоря обобщённо, поэтов предвоенного поколения можно назвать учениками и преемникам поэзии 1920-х годов. Помимо футуризма (Маяковский, Асеев, Пастернак) и конструктивизма (Сельвинский, Луговской) здесь нашлось место и по-новому осмысленной акмеистической поэтике (Тихонов, Багрицкий), и своеобразному абсурдистскому авангарду (обэриуты), и ещё целому ряду интереснейших экспериментальных ветвей на мощном древе русского модернизма. В нашу задачу не входит подробный экскурс в поэзию 1920-х – беглое упоминание ключевых имён этого периода в родной поэзии призвано здесь лишь оттенить имя поэта, на первый взгляд ничего общего не имеющего с поэтикой эпохи.
«В последние годы, – писал Исаковский в предисловии к первому своему «Избранному» 1931 года, – очень много говорили о необходимости повышения культуры стиха, об учёбе у таких, скажем, мастеров слова, как Б. Пастернак, И. Сельвинский. В своей работе я постоянно чувствовал недостаточность теоретических знаний и слабость техники стиха. И всё же я не мог брать пример с Пастернака или Сельвинского. Мне всегда казалось, что большим недостатком этих, несомненно, крупных поэтов является то, что они по существу пишут для небольшого крута избранных; широкие же слои читателей их не понимают и не читают…»
Спустя годы Сельвинский будет усмехаться: «Исаковский пишет: «Впереди страна Болгария, позади река Дунай». Чтобы не спутали, о чём он пишет, ставит слова «страна» и «река». Это ориентация на самых отсталых из читательской массы!» Твардовский же напишет: «Первым опознавательным признаком значительного поэтического явления, приобретающего характер явления общественного, можно смело считать то, что такие-то стихи читают уже и люди, обычно стихов не читающие». Этими словами автор «Василия Тёркина» предварял разговор о поэзии Исаковского.
В этих полярных по духу высказываниях двух выдающихся поэтов-современников отразился спор двух поэтических культур советского периода, двух малых эпох в литературе, а именно: поэзии 1920-х с поэзией 1930–1940-х. Творчество Михаила Исаковского становится здесь неким водоразделом и символом.
На красочном переливающемся фоне поэзии 1920-х будущий автор «Катюши» не то чтобы терялся – но скорее просто не вписывался в него, смотрясь кем-то вроде бедного родственника современной ему поэзии. «Разбавленное водой соединение Есенина с Жаровым» – таков был диагноз критики в ответ на выход первой книги его стихов «Провода в соломе» (1927). А между тем уже тогда в поэзии Исаковского наметилось то переломно-узловое начало, о котором Максим Горький высказался в рецензии на ту же книжку: «Исаковский – не деревенский, а тот новый человек, который знает, что город и деревня – две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для них пришла пора слиться в одну необоримую творческую силу, слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда и нигде не сливались».
Михаил Исаковский проложил новую тропу в русской поэзии – ведущую из деревни в город и обратно. В 1920-е многие поэты нащупывали такие тропки, но результаты были различны: кто-то приходил в город и хотел вернуться, но не мог, и потому родная деревня казалась ему всё прекраснее и идилличнее, а город всё страшнее и разрушительнее; кто-то, заблудившись в пути, так и не доходил до города, хотя и изо всех сил барахтался в урбанистических мотивах.
Исаковский начал с отчаянного порыва бедного крестьянского сына – об этом в его раннем стихотворении «Не пойду, не пойду я к опушке…»:
Сквозь леса и глухие болота
Проложу я прямую дорогу,
Потому что зовёт меня кто-то
И не верится старому богу.
Деревенский парнишка отказывается разом и от «врачующего простора» природы, и от народных поверий, от крестьянской культуры и, наконец, от старой веры, православного уклада. Всё – с нуля. «За новой, за лучшей судьбою / Я отправлюсь в далёкий город». А через несколько лет появятся знаменитые строки: «Я потерял крестьянские права, / Но навсегда остался деревенским».
Так да не так. Исаковский – подлинный интеллигент, человек большой культуры, автор прекрасных поэтических переводов, множества статей и эссе о поэзии. Он, кто «вырос в захолустной стороне», получил огранку городом и миром – с поправкой на новизну последнего. Певцом этого нового мира, национальным русским поэтом советской мировоззренческой ветви предстаёт Михаил Исаковский. Значение его для советской (а значит, и для русской – к пониманию чего мы рано или поздно придём) литературы несомненно. Это советский Кольцов, первый поэт советской деревни, художник, мыслящий не книгами, не циклами, даже не стихом, но именно песней. И в этой счастливой «особости» – его место «прочного звена», по Ходасевичу, в живой истории нашей поэзии.
«Враги сожгли родную хату», «Катюша», «И кто его знает», «В прифронтовом лесу», «Прощание» («Дан приказ: ему – на запад…»), «Летят перелётные птицы» – достаточно одного такого перечисления навскидку, чтобы убедиться: Исаковский – автор подлинно народных песен, абсолютный рекордсмен в своей области. Но и этого бывает недостаточно в разговоре о поэзии! Казалось бы, сколько поэтов советской эпохи имело успех в песенном жанре. Здесь и Ошанин, и Долматовский, и Фатьянов, и Рождественский. Но никто из них (за исключением, пожалуй, одного Фатьянова) не обладал тем подлинно поэтическим песенным даром, при котором слова не просто становятся песней, но самая песня оборачивается поэзией. Таким дарованием обладал Исаковский.
Пошёл солдат в глубоком горе
На перекрёсток двух дорог,
Нашёл солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
Изумительный по точности комментарий к этим строчкам находим у того же Константина Ваншенкина: «Глубокое горе» и «широкое поле» у Исаковского – рядом с пронзительностью всего остального – не воспринимаются как штамп и трафарет. Это здесь у него оказалось естественно и на месте. Эти эпитеты не взяты напрокат, а словно получены, выделены из насыщенного поэтического раствора в чистом виде».
Известна непростая «биография» стихотворения «Враги сожгли родную хату», подвергшегося резким нападкам после публикации в 1946 году, а затем долгое время запрещавшегося к исполнению уже в качестве песни. Стихотворение вышло победителем из этой схватки с временем. Иначе случилось с крупнейшим произведением Исаковского – поэмой «Сказка о правде». Написанная в 1945–1946 годах, она дважды – в 1940-х и 1960-х – предлагалась поэтом к публикации и тем не менее впервые была напечатана лишь в перестроечном 1987 году. В ней не было никакой крамолы и тем паче фиги в кармане – одно только искреннее желание дознаться до Правды (с большой буквы), представленное символически в образе простого мужика Савелия Кузьмича, отправившегося за три моря на поиски Правды, – «в руке посошок, за плечами мешок». «Скажите, пожалуйста, добрые люди, / Где Правда находится в вашей стране?» – спрашивает он у встречных. А те в ответ:
– …И сами б её мы увидеть хотели,
И сами вздыхаем – пришла бы хоть раз…
– Да так ли всё это? –
не верит Савелий, –
Мне точно сказали, что Правда – у вас.
– Да кто ж тебе выдумал это,
дружище?
Да как же такому поверить ты мог?
У нас её днём с фонарём не отыщешь,
А те, что искали, попали в острог.
И ты попадёшь,
коль расспрашивать будешь, –
Палач тебе мигом отхватит язык…
Обойдя целый свет, Кузьмич всё же находит Правду – старой и одинокой, живущей в ветхой избушке, куда никто не наведывается. Непростой выбор встаёт перед ним: рассказать об увиденном всю правду либо утаить её, оставив людям надежду на Правду-царицу, что «о людях заботится ночи и дни»? Сказка о правде трансформируется в притчу о спасительной лжи. Где же верный ответ?.. Поэма заканчивается молитвенным обращением героя к Правде – в обещании сберечь её в сердце во что бы то ни стало («Пусть будет мне тяжко, пусть будет мне плохо, / Пусть ждут испытанья на каждом шагу…»). Исаковским здесь была затронута некая подспудная атмосфера эпохи, пропитанной как великой Правдой подвига войны, так и многомерной ложью общественно-политической жизни тех лет.
«Для меня прежде всего была образцом – пусть не всегда достигаемым – твоя редкая среди нашей братии, почти беспримерная, как бы врождённая правдивость. Правдивость до невозможности солгать…» – писал Александр Твардовский своему старшему другу и земляку. Эта правдивость, чистота души и стиха – превыше школ и генераций – отличала Исаковского с первых шагов в поэзии и определяет по сегодня его место в нашей литературе. Ведь туда и «пролагал прямую дорогу» паренёк из раннего стихотворения Исаковского – к «матушке-Правде».
Идёт мимо сёл, перелесков и пашен.
А утро всё ярче, всё шире, вольней…
На этом и сказка кончается наша,
И жизнь начинается следом за ней.
Константин Шакарян