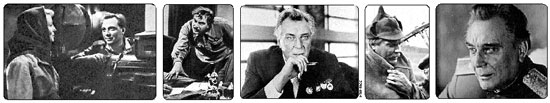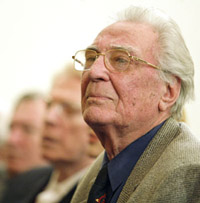 1 июня исполняется 4 года со дня смерти Евгения Матвеева. Есть повод вспомнить этого замечательного актёра и режиссёра
1 июня исполняется 4 года со дня смерти Евгения Матвеева. Есть повод вспомнить этого замечательного актёра и режиссёра
Смерть всегда приходит к любимым тобою людям неожиданно. Даже когда готовишься к неизбежному...
Последний раз мы общались с Евгением Семёновичем 1 мая 2003 года. По долгу давней любви и преданной дружбы я позвонил, чтобы поздравить его с праздником, с очередным, незнамо каким по счёту, показом его знаменитой кинотрилогии «Любить по-русски» на одном из центральных каналов. Услышал слабый, исчезающий голос, надсадный кашель, мешающий вязать слова. «Леонид Васильевич, дорогой, спасибо за звонок, – услышал я сквозь его (и мои) слёзы. – Самочувствие очень хреновое. На днях кладут в больницу на обследование, а там врачи, скорее всего, сообщат окончательный приговор. Я тебе позвоню из больницы, как только станет легче. Хотелось бы напоследок потрындеть (на самом деле он сказанул словечко покрепче. – Л.П.). Столько всего накопилось в душе...».
Больше не позвонил: тяжёлая болезнь – рак лёгких – уже не дала ему передышки. Он скончался 1 июня, проведя в болях, в муках весь месяц май, а до этого – ещё несколько лет, ведь никто, даже близкие, не знали о страшном диагнозе...
«ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ» КИНО
Он был мужественным, стойким, честным, широким русским человеком. В детстве голодал, холодал, как и всё его поколение. Ему между тем было потруднее прочих – рос он безотцовщиной, «байстрюком»: отец, красный командир, как говорится, поматросил молодую женщину да и бросил, умотал куда-то вместе со своими частями. Поднимала его одна мама, которую Евгений Семёнович боготворил до последних дней своей жизни, да дед, научивший работать (а трудиться маленький Женя начал с девяти лет) и играть на балалайке, – это, кстати, было его первое приобщение к искусству.
Юность Матвеева пришлась на годы войны, он служил честно и преданно, как и положено солдату, офицеру. Прошёл войну от звонка до звонка, хотя и не попал на передовую, о чём переживал. Но в тылу тоже было совсем не сладко – об этом он снял впоследствии один из любимых своих фильмов «Особо важное задание». После Победы офицера Матвеева прочили в военную академию, но он уже знал, что его судьба – искусство: до войны он успел недолго поучиться в Киевской киноактёрской школе у Довженко.
Один из любимых учеников Александра Петровича, Матвеев принёс на сцену, экран невиданный доселе накал страстей, высокую температуру эмоций, к чему, собственно, и взывал Учитель, без устали твердя о чистом золоте правды взамен медных пятаков правдоподобия. Матвеев не умел играть «жизнеподобно», то есть серенько, впроброс, каждую роль он исполнял истово, «на разрыв аорты». Это таило в себе, разумеется, и определённую опасность: подчас его заносило в излишний пафос, в некоторую плакатность, особенно когда приходилось играть пламенных секретарей обкомов. Но когда Матвеев попадал в подлинно народный характер, в незаурядную судьбу героя, как это было с Макаром Нагульновым или князем Нехлюдовым, цыганом Будулаем или мятежным лейтенантом Шмидтом, или бунтарем Пугачёвым, или военной косточкой Шаповаловым, — на экране рождались уникальные актёрские создания, покоряющие зрителя вдохновенной правдой жизни, высоким строем чувств.
Такой же эмоционально приподнятой, возвышенной была и его режиссёрская манера – он не любил на экране «ползучий реализм». В разговорах со мной часто повторял притчу Довженко: двое смотрят вниз, один видит лужу, другой – отражённые в ней звёзды. Была у него и собственная формула творчества: «Правда жизни, умноженная на мечту». Перед премьерой фильма «Любить по-русски-2» в Доме кино Евгений Семёнович разразился передо мной выстраданным монологом, который я тогда записал. Он стоит того, чтобы привести его целиком.
«Так уж повелось, – запальчиво говорил Евгений Семёнович, – что публика Дома кино воспитана на «авторском», «интеллектуальном, «перпендикулярном» и ещё Бог весть каком искусстве. А я всю жизнь снимал, не побоюсь этого слова, «прямолинейное» кино, которое предполагает самый прямой, самый короткий путь к сердцу зрителя. Я хочу говорить с ним на его языке и хочу быть понят им сейчас, а не, скажем, через 20–30 лет, до которых ещё надо дожить. Мне кажется, именно сегодня зритель нуждается в моральной поддержке, в серьёзном, граждански ответственном разговоре о том, что происходит вокруг. А вокруг – вы это знаете сами – много грязи, лжи, обмана, мздоимства. Я не отворачиваюсь в своей картине от этих «мерзостей жизни», но вместе с тем мне не хочется добавлять людям отчаяния, а хочется подарить им надежду. Часто говорят, что русская душа, мол, загадочная, непонятная, а мне она кажется открытой, ясной, чистой, распахнутой добру и свету. Именно такой я и хочу показать её в фильме. Поэтому я чуть-чуть – буквально на метр – приподнимаю события над грешной землёй, добавляю в повествование присущий мне романтический настрой, согреваю героев теплом своего сердца — и надеюсь на встречное движение зрительских сердец».
Интеллектуалы, кайфующие от изощрённой игры символов в переусложнённых картинах своих кумиров, порой морщились от подобных бесхитростных откровений, но такой глубоко образованный и широко смотрящий на вещи режиссёр, как Андрей Кончаловский, очень ценил народный талант Матвеева, о чём не поленился написать в своей книге. А уж простые, здоровые душой люди – те просто принимали фильмы Матвеева на ура. Помню, как неистово рукоплескал набитый до отказа зал кинотеатра «Космос» на премьере фильма «Любить по-русски», скандируя на финальных титрах: «Про-дол-же-ни-я!» «Про-дол-же-ни-я!». Если бы в эти минуты какой-нибудь томный киновед робко сказал, что «в фильме есть отдельные художественные недостатки», его тут же размазали бы по белому полотну экрана – такой заразительной была энергетика этого поистине «народного кино». Матвеев хорошо понимал, что снимает свои фильмы не для элиты, а, как он сам мне не раз говорил, «для тёти Мани и дяди Васи из маленьких городов, посёлков и деревень». Которые, добавим уже от себя, в своей совокупности и есть народ...
ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ СЛАЩЕ БАНАНОВ
Он был народным артистом не только по званию, но и по сути своего творчества, по образу жизни. С юмором рассказывал мне, как в тёмном месте его попытались ограбить несколько загулявших молодцов, но, узнав всенародного любимого актёра, извинились и тут же ретировались. Поступили бы они так же с нынешними секс-символами? Сильно сомневаюсь. Евгений Семёнович, конечно, всем строем своей жизни и образом мышления ничуть не походил на «звезду», он и слова-то такого чурался. Любил ядрёные частушки, которых со времён босоногого детства в селе Новоукраинка помнил великое множество, – часть из них использовал в трилогии «Любить по-русски». Умел в тёплой компании рассказать смачный анекдот. Ценил простую еду, говорил, что ничего вкуснее чёрного хлеба с херсонским арбузом в жизни не ел, скептически относился к заморской снеди – справедливо считал, что бананами сыт не будешь. Знал цену крепкому словцу и крепкому напитку – само собой, национальному...
Помню, лет шесть-семь назад он показывал мне дома на кассете только что смонтированную заключительную часть трилогии «Любить по-русски», где по дружбе снял в небольшом эпизоде и меня. Не обошлось, конечно, без рюмочки. За вечер под «фирменные» гренки, которые то и дело подносила его тихая, милая жена Лидия Алексеевна, уговорили две бутылки, сильно почали третью, притом Евгений Семёнович «отлакировал» эту бесценную влагу ещё и шестью бутылочками пива. Я к тому моменту был уже никакой, а он, провожая меня к стоянке такси, только посмеивался над хилостью молодого поколения.
Мне всегда казалось, что Евгению Семёновичу не будет сносу. Я знал, конечно, что после падения с лошади на съёмках фильма «Поднятая целина» у него больной позвоночник, что ему приходилось месяцами ходить в специальном корсете. Знал, что надсадный кашель – следствие не только многолетнего курения. Знал, что давно шалит сердце, что были в его жизни операции – притом такие, после которых не встают. Он каждый раз вставал, снова снимал кино. В возрасте, когда его сверстники в лучшем случае собирали грибы и удили рыбу, он поднимался в пять утра, чтобы день за днём в тяжелейших экспедициях снимать своё творческое завещание – трилогию с ёмким названием «Любить по-русски».
Он не мог сидеть без дела, проводить жизнь в праздности. До самых последних дней возглавлял в Союзе кинематографистов Совет старейшин, выступал на пленумах, ездил на фестивали, мотался с коробками своих фильмов по необъятным просторам нашей страны. «Даже ради одного зрителя, – говорил он на фестивале «Созвездие» в Архангельске, – я готов ехать в отдалённую деревню хоть на полуторке, хоть на оленях, хоть на собачьей упряжке». И ехал, и встречался с людьми, и заряжался от них необыкновенной энергией, и заряжал их сам своими фильмами и своим неравнодушным словом.
ОТ КПСС К ЖПСС
В нём всю жизнь клокотал бешеный общественный темперамент. Матвеев уже не в молодые годы ездил на целину, потом с шефскими концертами исколесил БАМ, чернобыльскую зону... Евгений Семёнович долгие годы искренне верил в святую для него коммунистическую идею, даже после перестройки часто повторял, что кроме, может быть, натюрморта и пейзажа не бывает непартийного искусства. В советское время он, конечно, не был диссидентом, инакомыслящим (таковых, между нами, были единицы). Однако и записывать его в верные служаки режима, как пытались некоторые наши коллеги, тоже неправильно.
Вот как сам Евгений Семёнович говорил мне об этом накануне своего 80-летия: «Да, я принимал советский строй, хотя, бывая за границей, понимал, что он неэффективен, что мы отстаём от западного мира по многим параметрам. Но я старался служить не партии, не идеологии, а своему Отечеству. И ради этого, не скрою, шёл на компромиссы, уступки. Мне говорили: вся страна борется с пьянством, а у вас в фильме провожают на фронт и угощают водкой. Вырезать! Я не хотел быть распятым на кресте и что-то подчищал, переозвучивал. Мне говорили: у вас герой крестится в кадре, а у нас страна атеистическая. И я оставлял от сцены только намёк на то, что герой крестится. В итоге зрители всё равно всё понимали, но и чиновники были довольны. А главное — картины, в которые я вкладывал свою душу, свою любовь к стране, к нашей героической истории, выходили в свет».
И собирали, напомним от себя, полные залы. «Любовь земную» за год проката посмотрели 69 миллионов зрителей. «Судьбу» – ещё 58 миллионов. «Особо важное задание» – ещё 48 миллионов. Никакими идеологическими разнарядками такое, конечно, не объяснишь...
В последние годы Матвеев разочаровался в партийных лидерах, в партийной верхушке, решительно избегал связывать своё имя с какой-то одной политической силой, справедливо считая, что «художник не должен состоять в партии. Тогда он будет служить не партийному уставу, а искусству». В своём отрицании какой-либо партийной ангажированности он пошёл дальше многих «свободолюбивых» творцов, любивших на митингах стоять то слева, то справа от Ельцина. «Я создал свою собственную партию, – с улыбкой говорил он мне в ельцинские времена. – Называется она ЖПСС. Может, звучит чуток грубовато, но точно по смыслу. А расшифровывается это так: Жить По Собственной Совести. В ЖПСС я никого не принимаю. Я и генеральный секретарь партии, и её единственный член. Сам себе плачу взносы. Сам же на них и гуляю. И девиз у моей партии подходящий: за реформы, но против бардака».
Евгений Семёнович очень тяжело пережил обструкцию, которой он и его поколение были подвергнуты на революционном 5-м съезде кинематографистов. Эта боль жила в нём до самой смерти. «Не скрою, – говорил он мне в одном исповедальном интервью, – пятый съезд вверг меня поистине в шоковое состояние. Когда люди, годами носившие, простите за грубый образ, дулю в кармане, вдруг получили возможность принародно показать её с трибуны, когда крикуны и горлопаны стали улюлюкать сидевшим в президиуме ветеранам советского кино, я решил, что наше сообщество свихнулось. И сам чуть не сошёл с ума от непристойности происходившего. Более того, позже у меня возникли даже мысли о самоубийстве – таким крайним образом я хотел протестовать против насилия над личностью, которого, кстати говоря, я не испытывал даже в тоталитарные времена».
Матвеев был редкостно искренним человеком. В советское время он как член КПСС, делегат партийных съездов, разумеется, подписывал всевозможные коллективные письма, в том числе, увы, и те, которые его не красили. Но в отличие от многих коллег, «забывших» об этом, нашёл в себе мужество повиниться перед своими зрителями.
Вот как он рассказывал мне об этом в минуты откровенного разговора «за жизнь»: «Я бы соврал, если бы сказал, что моя жизнь чиста как стёклышко. Да, были поступки, за которые мне стыдно по сей день. Расскажу такой эпизод из своей жизни. Помнишь, было время, когда наше общество осуждало академика Сахарова. Мне тогда позвонили и сказали, что вот уже учёные написали письмо осуждающее, писатели, композиторы написали. Сейчас вот мастера экрана пишут. И, мол, не поставлю ли я под этим письмом свою подпись. Я совершенно искренне тогда сказал: вы знаете, я не очень в курсе дела, где и что говорил Сахаров, не читал его работ, и мне неловко ставить свою подпись под этим письмом. Минут через 10–15 позвонили уже с самого «верха» и сказали: вы что, не доверяете Центральному Комитету? Не доверяете мнению людей, которые осуждают Сахарова? Когда мне назвали имена «подписантов», я чуть не задохнулся от волнения, что и моя фамилия будет стоять рядом с этими выдающимися мастерами культуры. И тогда я сказал: хорошо, ставьте и мою фамилию. А теперь мне очень стыдно за этот поступок. И я говорю своим зрителям: простите меня, я поступил некрасиво».
...ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА?
Слово «некрасиво» в этом контексте может кому-то показаться недостаточно определённым, а то и манерным. Но надо знать Евгения Семёновича, для которого «красиво», «красота» значили в жизни очень много. А слово «некрасиво» означало приговор. Сам будучи очень красивым человеком – и внешне, и внутренне, – он боготворил красоту во всех её проявлениях. Любил красивые мысли и красивые поступки. Любил красивые пейзажи, особенно среднерусские. Любил тёплую красоту мрамора в скульптурах Родена. Любил сниматься с самыми одухотворёнными, нежными актрисами нашего кино: Ольгой Остроумовой и Зинаидой Кириенко, Нинель Мышковой и Тамарой Сёминой, Валерией Заклунной и Людмилой Хитяевой, Светланой Коркошко и Вией Артмане, Галиной Польских и Ларисой Удовиченко...
Кстати, людская молва приписывала ему романы едва ли не со всеми этими актрисами. На подобные расспросы он всегда по-мужски сдержанно отвечал, что если романы и случались, то актрисы не уполномочивали его об этом рассказывать. А в кадре он, мол, целуется с ними исключительно ради гонорара. Евгений Семёнович, разумеется, не был бесплотным херувимом, по молодости, случалось, страстно увлекался, одно время даже ушёл из дома. Но потом вернулся и всю жизнь боготворил свою Лидию Алексеевну, которая, по его словам, терпела его целых 55 лет...
Словом, он жил по-русски – широко, щедро, красиво. И умер тоже очень по-русски – на руках у любимой жены.