Г. Товстоногов: Сквозная тема нашего разговора – как вы её определите?
В. Розов: Ну, давайте определим её так: что нужно нашему театру для его развития?
Г. Товстоногов: Тогда, может быть, начнём с того, что театральное искусство необычайно связано со временем, с тем, чем сегодня живёт зрительный зал. Что сегодняшний режиссёр непременно должен быть представителем зрителя, его полпредом – с выбора пьесы и до премьеры. Ты должен всё время ощущать будущее дыхание зрительного зала, чувствовать интересы и волнения зрителя, знать, что происходит у него в душе. Если нет этого, мне кажется, театр не может быть по-настоящему современным.
Уровень сегодняшнего театрального искусства должен быть высок как никогда, потому что требования зрителя всё время растут. Я это ощущаю просто физически.
В. Розов: И я это ощущаю, сидя в зрительном зале. Я вижу, как изменилась реакция зала на постановках некоторых пьес.
Г. Товстоногов: А актёрское исполнение? Если раньше эстетическая оценка была уделом, так сказать, театральной элиты, то теперь любой заметит, как весь зал чувствует малейшую неточность, которую раньше прощал. Он становится всё более требовательным в оценке лица сегодняшнего театра. И тут нельзя не вспомнить, что один из важнейших элементов – его репертуар.
В. Розов: Лично меня в драматургии, конечно, интересует то, что напишут Арбузов, Штейн, Салынский, Макаёнок, Зорин, Алёшин, Володин, Думбадзе, Радзинский… Только каждый из них – те, кого я назвал, и ещё многих сюда можно причислить – это драматурги состоявшиеся. Но самые большие мои ожидания связаны с будущим, с появлением новых имён в драматургии. Потому что появление молодых – это непременно свежий, неожиданный голос. И главная причина того, что хороших пьес в хороших постановках чрезвычайно мало, в малом числе молодых драматургов. Театры слабо работают с авторами, многие практически перестали работать с ними, забыв, как важен для роста драматурга тесный контакт с театром. Я сужу по своей личной судьбе.
Двадцать с лишним лет назад я принёс довольно малокровную пьесу «Её друзья» в Центральный детский театр, попал в интересный театральный коллектив – со Сперантовой, Чернышёвой, Перовым и другими, попал к Ольге Ивановне Пыжовой и Борису Владимировичу Бибикову. Я работал с ними вместе на каждой репетиции чуть ли не год и доводил пьесу до того состояния, когда она могла называться пьесой. Для меня это была высшая школа.
Г. Товстоногов: Примерно в этот период в том же Центральном детском театре я работал над инсценировкой повести комсорга Ирины Ирошниковой «Где-то в Сибири». Это был просто очерковый материал, увиденный свежим взглядом, но в нём начисто отсутствовало что-либо похожее на драматургию. И вот вместе с Ириной Ивановной в течение полугода пьеса создавалась, и вышел…
В. Розов: Чудесный спектакль, я очень хорошо помню. Свежий, интересный…
Г. Товстоногов: Которого без театра, может быть, и не было бы.
В. Розов: А я уж не говорю о второй своей пьесе, «Страница жизни», для меня счастье было работать с Марией Осиповной Кнебель, работать – и опять учиться писать.
Я знаю, есть люди, которые говорят: «Нечего баловать автора – он должен принести готовую пьесу, тогда он драматург». Нет, к сожалению, это не соответствует исторической картине совместного развития драматургии и театра.
Как работал над пьесами Мольер, мы не знаем. И дополнял ли что-нибудь Шекспир во время репетиций, тоже не знаем. Известно только то, что осталось – окончательный текст. Но мы знаем, что рождался он в живом театре. Я хочу привести ещё один пример, который сегодня даже кажется удивительным, хотя он известен достаточно широко.
Когда Станиславский принял к постановке «Власть тьмы» Толстого, ему казалось, что пьеса недостаточно хороша и не так написана, как надо. Толстой был в зените славы, даже выше зенита, но Станиславский осмелился просить его переделать ряд сцен. И Толстой с театром доделывал пьесу. Лев Николаевич Толстой.
Г. Товстоногов: Благодаря содружеству драматурга и тетра мы имеем «Бронепоезд 14-69», «Любовь Яровую», «Оптимистическую трагедию» и ещё многое другое. Мы имеем целый ряд пьес, которые сегодня называют классикой советского театра.
В. Розов: Это, если так можно выразиться, естественная творческая редактура в театре. Сейчас работа с авторами происходит чаще всего в репертуарно-редакторских коллегиях Министерства культуры. Пусть работают коллегии и театры – это только облегчит путь пьесы к сцене.
У нас почти четыреста театров. Поле деятельности для драматургов несказанное. Но новых, новых имён слишком мало… Вот Рощин появился как драматург…
Г. Товстоногов: В Иркутске – Вампилов, хорошо чувствующий театр и драматургию. Волнует меня пассивность театров в борьбе за приход в драматургию талантливых прозаиков, чьи произведения свидетельствуют о глубоком знании жизни и ощущении подлинных конфликтов. У нас не хватает темперамента и терпения добиться активного участия в драматургии таких писателей, как С.С. Смирнов, Ч. Айтматов, Ф. Абрамов, Д. Гранин и др. Я считаю, что по большому счёту мы отвечаем за то, что, появляясь на сцене, далеко не всё выглядит так крупно, как на страницах книг и журналов. Убеждён, что литература – наш резерв! Работа нашего театра с молодыми писателями Л. Жуховицким и Р. Ибрагимбековым подтвердила мои ощущения.
В. Розов: Как это хорошо для нашей театральной жизни – появление в Москве двух новых театров – «Современника» и Театра на Таганке.
Я говорю так потому, что и это ещё очень важно для драматургов: разнообразие театральных организмов.
Г. Товстоногов: Я думаю, это тесно связано и с проблемой режиссуры. Курсы повышения квалификации режиссёров, которые сейчас существуют, или лаборатории ВТО – вещи, конечно, полезные. Но что тут особенно важно? Студия. Как возникли Вахтангов или Завадский?
В. Розов: Студия. И студия Хмелёва. И студия Дикого!
Г. Товстоногов: Где, как не в нашей стране, должны развиваться новые театральные студии, коллективы, имеющие что сказать? У нас столько дворцов культуры, столько молодых артистов, они с наслаждением объединяются вокруг какой-то яркой молодой индивидуальности. Настоящий театр может возникнуть везде – большое искусство от адреса не зависит.
А как важно сопряжение режиссёра с коллективом…
Если этот момент сопряжения с коллективом не учитывать при назначении нового руководителя, только случайность может дать хороший результат.
В. Розов: Вот Товстоногов пришёл в БДТ – это, конечно, случай сопряжения, счастливейший необыкновенно. Но извините меня, Георгий Александрович, вы всё-таки ещё и так перешерстили и перекроили этот добротный материал…
Г. Товстоногов: Это было довольно сложно, и такое можно сделать один раз в жизни.
В. Розов: Я думаю… Я представляю себе самочувствие режиссёра, который работает в театре, где ему не по душе. Это примерно, если бы я написал пьесу, которая лично мне не нравится…
У нас порядочно молодых режиссёров, но некоторые довольно много кочуют из театра в театр. Всё-таки давайте вспомним фамилии и здесь.
Ленинградец Опорков, рижанин Шапиро, прекрасно поставивший «Город на заре» Арбузова и «Последние» Горького, Юрий Киселёв в Саратовском ТЮЗе.
Вот появился в «Современнике» Фокин. Вот на эту же букву – Фоменко, как хорош его спектакль «Король Матиуш Первый» в Центральном детском! В театре Моссовета «Тёркина» и «Эдит Пиаф» поставил Щедрин. В Центральном детском очень хорошо себя показал Лесь Танюк, а потом стал бродить по другим театрам. Чуть постарше ленинградец Корогодский, москвич Хейфец. Марк Захаров – очень интересный режиссёр.
Г. Товстоногов: Весьма.
В. Розов: Кого-то мы сейчас впопыхах пропустили, но я думаю, только в одной Москве мы наберём почти десяток молодых режиссёров. Пройдёт время, они станут пожилыми и, если не будет условий, недодадут многого. А когда появятся новые талантливые? Они приходят редко, потому что талантливое вообще приходит редко.
В общем, я говорю так: талант падает с неба. Что мы можем для него сделать? Только взрыхлить и удобрить почву, в которой ему расти. Если он упадёт на камень, то погибнет. Если упадет в чернозём, то взойдёт, даст цветы и плоды. Наше дело – готовить почву.
Г. Товстоногов: Прекрасно…
В. Розов: Я думаю, откровенно говоря, что никогда на земле не будет рая, всегда будет конфликтно. Мы видим, как беспрестанно меняются условия, и новые условия порождают и новые конфликты.
Г. Товстоногов: Новые условия вызывают и новое качество конфликтов. В этой связи меня всегда волнует и смена выразительных средств – и в нашем деле, и в вашем. Новое качество конфликта требует ведь и нового построения драмы, требует уже другого способа выражения жизни и от нас, режиссёров. Жизнь обновляется, и то, что сегодня казалось таким новым, завтра становится уже безнадёжно устаревшим. Здесь мы – и режиссёры, и драматурги – в одной опасности находимся.
В. Розов: Я даже в большей, чем вы. Только не примите за пустой комплимент: вы более подвижны, чем я. Я ужасно консервативен в форме письма. Но я – как мне, во всяком случае, кажется – очень чувствую движение нового. Поэтому я мучительно ищу новых способов выражения – в старой вроде форме, но, бесспорно, нового.
Я уже давно говорю, что являюсь сторонником психологического театра. Я считаю, что театр говорит своим собственным языком, и это – язык чувств, он гораздо более универсален, чем любой другой, в том числе прямая разговорная речь. Словарный запас нашего языка чрезвычайно богат, но «словарный запас чувств» богаче в 10 000 раз.
Вот я иду по улице, стоят двое и разговаривают на каком-то языке, для меня совершенно непонятном. Я прохожу мимо, я не понимаю ничего. А дальше я вижу: стоят парень и девушка, она заливается слезами и рыдает, уронив ему голову на плечо, а парень гладит девушку по голове и что-то неслышно шепчет на ухо… Я всё понимаю, и у меня подкатывает к горлу комок. Потому что это разговор на языке чувств, а наш язык со всем своим богатым словарным составом – азбука Морзе для выражения чувств.
Если я пишу пьесу, то ищу те слова, их сочетания, ту ленту азбуки Морзе, которая позволит актёру выразить состояние героя пьесы. Поэтому лексика и синтаксис драматурга могут показаться даже странными и неожиданными, главное – выбить на ленте дорожку чувству…
Язык чувств универсален и принципиален. Глядя спектакль на любом языке мира и зная завязку, можно понять весь спектакль. Я уже вижу – ревнует, негодует, подозревает и так далее. А если я буду слушать какой-нибудь доклад, то, даже зная начало, ничего не пойму.
Поэтому, возвращаясь к консерватизму, я должен сказать, что признаю и театр интеллектуальный, но считаю его в какой-то степени обеднённым. По-настоящему театр состоялся тогда, когда произошло потрясение.
Г. Товстоногов: У меня есть возражение. Понимаете, я совершенно согласен с вашей посылкой: я тоже за театр глубинного психологического содержания. Но он может быть разным. Вот, скажем, Брехт, который утверждает, что сегодня только мысль может взволновать и что в конечном счёте она будет действовать на чувство. Изменился, по существу, способ.
Художественный театр начала века и «Современник» сегодня – и тот психологический театр, и этот, но средства совсем другие, они обновляются.
В. Розов: Да, здесь я целиком согласен.
Г. Товстоногов: И интеллектуальный театр, он тоже в конечном счёте эмоциональный, если это хороший интеллектуальный театр. Просто воздействие через голову, а не прямо на сердце, скажем так, если опрощать.
В. Розов: Тут я с вами поспорю. Я Брехта видел в Венгрии – «Кавказский меловой круг» в Театре имени И. Мадача. Именно там он произвёл на меня особенное впечатление, Брехт, потому что был сыгран с поразительной эмоциональной страстностью и горячностью. Я видел, как женщина, взяв чужого ребёнка, вдруг почувствовала себя матерью и спасала его, потому что она мать, спасающая своё дитя. Это меня потрясло, как потрясают всякое благородство и высота человеческих чувств.
Ну, разумеется, воздействие через мысль… Но есть режиссёры и драматурги, которые придают воздействию на разум чрезмерное значение, как будто мы не знаем заблуждений мысли…
Эмоционально же заблуждаться почти невозможно, хотя случаются эмоциональные вихри, бури, вызванные определёнными обстоятельствами….
Г. Товстоногов: В любви сколько ошибок происходит...
В. Розов: В любви ошибок не бывает.
Г. Товстоногов: То есть как это?
В. Розов: Или любят, или не любят.
Г. Товстоногов: Любят, но, оказывается, не того…
В. Розов: Нет, этого не бывает. Как можно любить «не того»?
Г. Товстоногов: Но сколько раз человек обнаруживает, что объект любви...
В. Розов: Нет, нет, это проходит любовь. Влюблённый не обнаруживает ничего, кроме прелести.
Г. Товстоногов: Хорошо, но я дружу с человеком – вот другая эмоция, пожалуйста, – и потом в нём разочаровываюсь. Здесь была ошибка, о которой мне сигнализирует мозг.
В. Розов: Нет, не только мозг...
Г. Товстоногов: Если он меня предал, человек, то прежде это понимает мозг, а потом уже возникает эмоция...
В. Розов: Но вы не умом разлюбили своего друга – вы его потеряли эмоционально. Говорят: «У меня как будто все внутри оборвалось...»
Г. Товстоногов: Но сигнал даёт мозг?
В. Розов: Погодите, Георгий Александрович. Сознание важно, оно пользуется и ушами, и глазами, и кожей – всем. Значит, не один только мозг, скажем так. Любимая женщина может изменить, а вы её всё будете любить, хотя мозг вам говорит обратное.
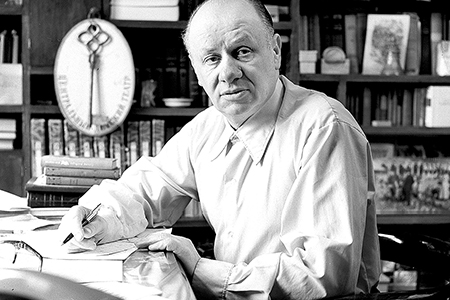
<…>
Г. Товстоногов: Есть ещё один поворот разговора, которым мне хотелось бы с вами поделиться… Я хочу привести пример.
Однажды мы с племянником пошли в музей, в одном из залов подошли к картине современного художника и тихо, не громче, чем мы сейчас с вами говорим, обсуждали её достоинства. Вдруг незнакомая женщина вторгается в наш разговор. Но на какой ноте! Трудно передать ту интонацию и ту ярость, с какой дама набросилась на нас.
«Безобразие! – кричала она. – Всерьёз обсуждают какую-то мазню!..» – и так далее. Остановить эту сцену было невозможно… Откуда эта неприязнь к непривычному?
В. Розов: Это, наверное, по Павлову, по Ивану Петровичу. У людей с течением времени в мозгу образуются так называемые устойчивые связи. Когда эта устойчивая связь рвётся, человек кричит, потому что больно.
Но вопрос гораздо шире, я понимаю вас. Наше воспитание и образование, особенно юношества, должно быть построено так, чтобы не возникали там, где не надо, эти устойчивые связи.
Г. Товстоногов: Вероятно, в этом корень.
В. Розов: Вероятно. Но, знаете, это вообще людям иногда свойственно: навязывать свою точку зрения – на книгу, фильм, пьесу. Порой даже не хочется возражать, потому что понимаешь: всё равно толку мало… Как в анекдоте, который вы, наверное, знаете: «Почему вы всегда так хорошо выглядите?» – «А я никогда не спорю». – «Неужели не спорите?» – «Спорю, спорю, спорю…»
Но в творчестве надо обязательно спорить, иначе – штамп-штамп, а вы ведь знаете силу штампа.
<…>
В. Розов: Я представляю себе вас перед премьерой – шутка ли, вокруг идёт шум: «Товстоногов выпускает спектакль». Ну, поставил пьесу Сидоров. Мы идём, говорим: «Ай да Сидоров!» Но выпускает Товстоногов – и начинается, и начинается: «А-а… Да вы знаете… Нет, «Мещане» всё-таки у него были лучше… Э-э, знаете, есть какие-то элементы. Но чисто нового не так уж много… Большой, конечно, режиссёр, но уже сработался…»
Г. Товстоногов: Пришло время новых…
В. Розов: Говорят так, верно?
Г. Товстоногов: Да.
В. Розов: А как же! А самое-то главное вот что: мы знаем, что стареем, что изнашиваемся, что можем повторяться. Мы знаем. Но мы на это не имеем права. Зрителю нет никакого дела, что тебе 80 лет, 90 лет, болен ты, у тебя несчастье, в нашу профессию входит вечно быть молодым и новым. Только тогда тебя будут слушать и слышать.
И ещё я думаю, что театр будет нужен всегда.
Г. Товстоногов: Как всегда будут нужны учителя…
Запись диалога вёл
Григорий Цитриняк
1972, № 26

