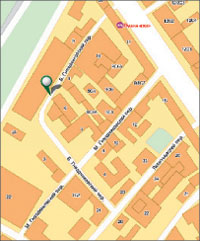 По поводу происхождения названий Большого и Малого Гнездниковских переулков есть разные версии. Прежде всего на ум приходят птичьи гнёзда, имевшиеся в изобилии в шумевших здесь когда-то рощах. Однако, например, знаменитый историк Москвы П. Сытин считал, что здесь жили гнездники – мастера по изготовлению дверных петель. Другие полагают, что мастера-гнездники делали стрелы, подсчёт которых вёлся «гнёздами».
По поводу происхождения названий Большого и Малого Гнездниковских переулков есть разные версии. Прежде всего на ум приходят птичьи гнёзда, имевшиеся в изобилии в шумевших здесь когда-то рощах. Однако, например, знаменитый историк Москвы П. Сытин считал, что здесь жили гнездники – мастера по изготовлению дверных петель. Другие полагают, что мастера-гнездники делали стрелы, подсчёт которых вёлся «гнёздами».
Начнём рассказ с Большого Гнездниковского переулка. Дом № 3 (XVIII в.) в начале XIX в. принадлежал Петру Нащокину, брату того самого «эпикурейца» Павла Нащокина, близкого знакомца Пушкина ещё по Царскосельскому лицею. С большой долей вероятности можно утверждать, что и сам великий поэт бывал здесь. Ведь он хорошо знал семью Нащокиных. Затем в доме поселился драматург А. Тарновский, а вместе с ним воцарилась и театрально-богемная атмосфера – приходили репетировать М. Щепкин, В.?Живокини.
Жаль, что утрачена в недавние годы усадьба Римского-Корсакова (№ 5, XVIII в.), где в 1863 г. жил Ф. Тютчев, а позднее, в 1880-х гг.,?– М.?Петипа. Разрушена в 1930-е гг. и церковь Николая Чудотворца в Гнездниках, известная с 1625 г. На её месте сегодня стоит дом № 4.
Радует глаз наиболее интересный памятник архитектуры функционализма – доходный дом Э.К. Нирнзее (1912 г.). Владелец здания одновременно являлся и его архитектором. Квартиры здесь были словно гнёзда (под стать названию переулка) – маленькие, состоявшие из комнаты, ванной и туалета. Кухня вообще не была предусмотрена, а для обедов на девятом этаже был спроектирован зал. Естественно, что в таких условиях могли жить или совсем одинокие люди, или бездетные семьи. Специально для них Нирнзее и построил свой дом. А для того, чтобы жильцы не скучали, зодчий предусмотрел наличие в здании сада, обсерватории и катка на крыше. Ну и, конечно, театр-варьете в подвале, прославившийся на всю Москву под именем «Летучая мышь».
Одним из первых жильцов дома стал Давид Бурлюк – поэт, критик, художник, идеолог русского авангарда. Диапазон художественных пристрастий Бурлюка во многом был вызван кругом его общения. К нему приходили друзья – бубнововалетовцы М. Ларионов и Н. Гончарова, В.?Кандинский, В. Каменский и, конечно, Владимир Маяковский, который останавливался и жил на квартире Бурлюка весной 1915 г. Маяковский писал: «Всегдашней любовью думаю о Бурлюке. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом».
То, что у Бурлюка был только один глаз, нисколько не мешало ему иллюстрировать книги Маяковского. С 1911 г. они учились в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, откуда их вместе и выгнали в 1914 г. Футуристы обожали Бурлюка. Для их кафе на Тверской улице он придумал вывеску: «Мне нравится беременный мужчина». Он и сам, можно сказать, выглядел неординарно. Выдвинув в качестве своего девиза фразу: «Надо ненавидеть формы, существовавшие до нас!», он наряжался в клоуна и рисовал у себя на щеке маленьких лошадок. Кроме того, Д. Бурлюк был ещё и продюсером, организовывая по России гастроли многих своих друзей, за что получил прозвище «Дягилев русского авангарда». В 1918 г. он отправился в очередную поездку по России, но в свой дом в Гнездниках уже не вернулся, а перебрался в Японию, а затем, в 1922 г., в США. Вновь он приехал в Советскую Россию лишь в 1956 г. Когда обсуждался вопрос о том, кто будет оплачивать приезд Бурлюка, бывшая подруга Маяковского Лиля Брик сказала: «Никакими тысячами нельзя оплатить Давиду те полтинники, которые он давал нищему, чтобы тот мог писать стихи, не голодая».
Кроме того, Д. Бурлюк был ещё и продюсером, организовывая по России гастроли многих своих друзей, за что получил прозвище «Дягилев русского авангарда». В 1918 г. он отправился в очередную поездку по России, но в свой дом в Гнездниках уже не вернулся, а перебрался в Японию, а затем, в 1922 г., в США. Вновь он приехал в Советскую Россию лишь в 1956 г. Когда обсуждался вопрос о том, кто будет оплачивать приезд Бурлюка, бывшая подруга Маяковского Лиля Брик сказала: «Никакими тысячами нельзя оплатить Давиду те полтинники, которые он давал нищему, чтобы тот мог писать стихи, не голодая».
В квартире Бурлюка жил и его младший брат Николай, писатель и художник.
В 1920-х гг. в доме жил литератор Арсений Авраамов. У него часто собирались коллеги по перу, в том числе С. Есенин и А. Мариенгоф, позднее вспоминавший: «Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов, у него в доме Нерензее, в комнате, тоже мёрзли чернила и тоже не таял на калошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек – попробуй согнуть, и сломятся. Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции. Много с тех пор утекло воды… В доме Нирнзее газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу».
В 1920-х гг. в здании располагалась редакция газеты «Накануне», автором которой был М. Булгаков. Здесь на очередной редакторской вечеринке он впервые увидел Елену Нюренберг-Шиловскую, которой суждено было стать не только третьей его женой, но и хранительницей рукописи «Мастера и Маргариты».
Не будем описывать все перипетии любовной истории, препятствовавшей браку Булгакова и Шиловской. Отметим только, что после того, как муж Елены Сергеевны – начальник штаба Московского военного округа Шиловский узнал обо всём, он встретился с Булгаковым и с военной прямотой потребовал от него разорвать все отношения с чужой женой. Причём на встречу с писателем он пришёл с пистолетом. Булгаков говорил позднее, что Шиловский хотел его застрелить?– настолько накалились страсти. Тогда Булгаков дал слово Шиловскому больше не встречаться с Еленой Сергеевной. После этого влюблённые не виделись год.
Но время в данном случае не вылечило. Чувство только усилилось от разлуки. В конце концов Шиловский дал развод своей жене. И Елена Сергеевна стала Булгаковой. После смерти Михаила Афанасьевича она посвятила свою жизнь заботам о публикации романа «Мастер и Маргарита».
Интересно, что Булгаков сделал местом встречи Мастера и Маргариты именно Большой Гнездниковский переулок. Видимо, для писателя и его главного романа встреча с будущей женой в доме Нирнзее в Гнездниках стала судьбоносной: «По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно… Я свернул в переулок и пошёл по её следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души».
А вот и дом в Малом Гнездниковском переулке (№ 7, XVIII в.), тесно связанный с историей российского кино. В 1880 г. особняк купил нефтепромышленник Г. Лианозов, задумавший создать здесь киностудию. В этом благородном деле ему помогали Ф. Шаляпин, М. Андреева, часто навещавшие хозяина дома в 1910-х гг. Но последовавшие вскоре известные события мирового масштаба не дали осуществиться задуманному. Зато уже в 1918 г. в доме надолго угнездились деятели «важнейшего из искусств»: сначала «Совкино», затем Кинокомитет, Госкино СССР… В 1930-е гг. именно сюда приезжал Сталин с соратниками смотреть премьеры первых совет-ских кинофильмов. Здесь можно было встретить Эйзенштейна, Ромма, Калатозова, Пудовкина и многих других…
