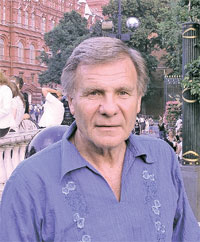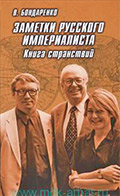
Владимир Бондаренко. Заметки русского империалиста. Книга странствий. – М.: Вече, 2014. – 1000 экз.
Домашняя думка в дорогу не годится. Владимир Даль
Михаил Пришвин, который в своей путевой прозе и очерках, будь то северная повесть «В краю непуганых птиц» или подмосковные «Башмаки», остаётся для меня непревзойдённым и вдохновляющим образцом писательского постижения Отчизны, обронил парадоксальную на первый взгляд фразу: «Русский, восхищаясь другой страной, так выражает смертельную любовь к своей родине». После бесконечных дорог по стране и многих по зарубежью мне сполна открылся смысл высказывания. Русский, восхищаясь, не столько завидует или по еврейской привычке мысленно подбирает место обитания (мол, где хорошо, там и родина), сколько искренне любуется, жадно постигает, а главное – пытается сравнивать, перенимать всё лучшее, задумывается: почему же на родине не так? – ну, вот же отличный пример!
Лучшим подтверждением этого глубокого высказывания Пришвина и продолжением слов Достоевского о нашей всемирной отзывчивости стала для меня новая книга Владимира Бондаренко «Заметки русского империалиста. Книга странствий». Только прочитав сводную книгу странствий, понял до конца его признание первопроходца: «Скажу честно: я всю жизнь болен страстью к путешествиям. Помню, когда работал инженером в научном институте бумаги, с удовольствием ездил в каждую дыру, будь то Боровичи или литовский Григишкес, Сызрань или эстонский Вильянди. Коллеги отказывались под любым предлогом: семья, дети, спорт, болезнь, спокойный диван дома, а я мчался на любой край света… То же самое происходило и после моего перехода на журналистику, в «Литературную Россию» в 1977 году. Многие журналисты тоже предпочитали и предпочитают отсиживаться в Домжуре или ЦДЛ, а не ездить в теплушках, не летать на вертушках, не ночевать непонятно где, от сеновала до нетопленного рабочего общежития. Ведь сразу в журналистскую элиту с люксами и пятизвёздочными отелями не попадёшь ни у нас, ни в Америке, ни в Европе, сначала надо доказать, что ты можешь».
Бондаренко давно доказал, в книге собраны «почётные» вроде бы путешествия по высоким приглашениям. Например, он выступал на юбилейном съезде НТС во Франкфурте-на-Майне, читал лекции о «литературе врага» в логове американской военной разведки в Гармиш-центре среди баварских Альп. «Помню, известный тогда «огоньковский» журналист Феликс Медведев встретил меня в Мюнхене на радио «Свобода» и поразился, кто пустил сюда этого красно-коричневого? Мой друг Петя Паламарчук даже боялся подходить к Гармиш-центру, я прочёл там цикл лекций о русской литературе. Когда прочёл несколько лекций о русской литературе, разразился скандал». Его пригласили в поездку по всем крупнейшим университетским центрам Германии с лекциями и дискуссиями, но он оказался с инфарктом в немецком госпитале Кёльна, где и провалялся около месяца. Но дороги продолжились. «Кстати, ни разу, ни в советское, ни в антисоветское время я не ездил за границу за счёт Союза писателей. Чем-то не подходил высокому литературному начальству ни в советское, ни в антисоветское время. Хотя, поправлюсь, один раз я ездил за рубеж за счёт Союза писателей СССР. По рекомендации Александра Проханова был в составе писательской делегации из двух человек (вместе с Юрой Скопом) в воюющий Афганистан». Но они вырвались из правительственного особняка в Кабуле и объехали все горячие точки. В воюющей Сербии и Черногории он был несколько раз, беседовал с Воиславом Шешелем, с Радованом Караджичем. Попадал как делегат и на съезд ку-клукс-клана в Атланте, где успешно выступил, а затем и на встречи правых республиканцев в Нью-Орлеане. Вместе с Владимиром Жириновским летал в Тунис и далее – на машинах через пустыню в Ливию, в шатёр к растерзанному позже Кадаффи.
Володю не устраивало, что в Венецианском университете, в Оксфорде, в Кёльне – везде – царила либеральная цензура. Кроме профессорско-либеральной четвёрки – Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, а затем сразу же Солженицын и Бродский – больше никого не знали. Ни Блока, ни Платонова, ни Есенина, ни Шолохова, ни Клюева, ни Хлебникова, ни Кузнецова, ни Рубцова. А уж о нынешних русских прозаиках и не слыхивали.
Но главное открытие и откровение – Китай! С полным основанием бескомпромиссный критик пишет: «Мои заметки не столько о Китае, что увидишь в этой имперской твердыне за две недели? Сколько о своих впечатлениях и о Китае и о России на фоне Китая, в отражении Китая. Китай – это упущенные возможности России… Как можно, увидев наяву реальные пути развития, шанхайские дорожные развязки, небоскрёбы и новейшие научные центры, врать с телеэкранов о стабильном росте экономики России? Сырьевую колонизацию умело назвали энергетической экономикой, но даже нефть гоним в необработанном виде, лес отправляем брёвнами, даже алмазы не научились как следует обрабатывать, доверив это Де Бирсам».
Несколько лет прошло с этой тирады – увы, мало что изменилось. США в замшелой резолюции Конгресса 758 снова сделали ставку на допотопную радиостанцию «Свобода», она переехала в Прагу, но суть и состав не изменились. Как писал автор: «Значит, и впредь на всю Россию будет влиять многосотенный коллектив, где на сегодняшний день нет ни одного этнического русского». Тогдашний руководитель русской службы Юрий Гендлер и его помощник Фима Фильштейн уверяли гостя, что необходимо провести мутацию русского духа, если таковой вообще нужен. Изменили же, мол, союзники немецкий дух, и немцы довольны. Так и с русскими требуется поступить. Эта программа нам по собственным СМИ печально известна, главный вопрос Года литературы: поддержит ли государство писателей – столпов русского духа, русской дорожной думы, постигаемой в пути?