Возвращаясь к нашему спецпроекту, посвящённому современной российской драматургии и её взаимодействию с отечественным театром (начатому в ‹ 5 за этот год), предлагаем вашему вниманию два материала, исполненные, как и было обещано, в различных жанрах. В полемику включается режиссёр, лауреат «Золотой маски» Владимир АГЕЕВ, известный не в последнюю очередь благодаря своим разработкам в области «новой драмы» (о двух его спектаклях – «Орнитология» и «Пленные духи» – упоминала в рамках настоящей дискуссии критик Анна Кузнецова). А о сравнительно недавно увидевшем свет сборнике драматургии Людмилы УЛИЦКОЙ мы обещали поговорить подробно.
Русское варенье и другое. – М.: Эксмо, 2008. – 256 с.
Тираж у сборника по нынешнему времени просто-таки запредельный. Он, мало сказать, внушителен и в абсолютном значении, а исходя из того, что пьесы есть в принципе наименее читаемый подвид литературного творчества, сей показатель следует числить как выдающийся. 150 тыщ экземпляров – такое и в самом сладком сне не могло привидеться никому из писавших в драматическом роде на всём протяжении советской эпохи, будь он хоть трижды лауреат и видный общественный деятель в придачу. Что уж говорить о драматургах современных, для которых и вдесятеро меньшая цифра сегодня – недостижимый предел мечтаний. А какие-нибудь лидеры «новой драмы» издают себе свои творения в количестве тысяча, много три, штук и, кажется, более чем удовлетворены подобным положением вещей, о большем, похоже, и не мечтая…
Означает ли это, что драмы и комедии Людмилы Улицкой в 150 раз лучше? Или то, что наша сегодняшняя сцена нуждается в них в куда большей степени, нежели в сочинениях братьев Пресняковых, братьев Дурненковых и иже с ними (чей общий суммарный тираж всё равно будет значительно уступать количеству оттиснутого «Русского варенья…»)? Или, наконец, свидетельствуют ли эти цифры о том, что драматургия Улицкой гораздо читабельнее и «смотрибельнее» по сравнению с иными, ей современными?..
В отношении последнего вопроса можно сказать худо-бедно утвердительно: драматургические произведения популярной писательницы действительно имеют куда более, не в пример «новодрамовцам», внятный сценический «посыл» и «удобоваримость» на уровне сюжета, техники письма, лексики etc. Надо полагать, годы, проведённые автором в должности завлита Камерного еврейского музыкального театра (где оказалась Улицкая, уволенная из академического института за «самиздат»), не прошли зря. Более того, в начале 80-х, о чём в рамках мощной пиар-кампании, сопровождавшей выход рецензируемого издания, не раз поминалось в прессе, бывшая диссидентка и будущая обладательница «Большой книги», оказывается, вовсю занималась сочинением пьес и инсценировок для детских и кукольных театров, которые распространялись по городам и весям благодаря специальной минкультовской программе.
Те давние опыты в новый сборник не вошли. Возможно, и напрасно. Поскольку, во-первых, тогда не было бы нужды искусственно (при помощи крупного шрифта и широких полей) раздувать составившие его три текста до объёма «полновесного», в твёрдой обложке тома. А во-вторых, внимательное знакомство со «взрослыми» пьесами Улицкой позволяет сделать весьма неутешительный вывод о поступательном, в течение времени, размывании её драматургического метода (причём происходит этот процесс на фоне роста прозаической мастеровитости автора – должен, безусловно, оговориться, что я принадлежу, скорее, к поклонникам «Казуса Кукоцкого» и «Даниэля Штайна, переводчика», нежели к их хулителям).
Действительно, самое раннее из составляющих книгу произведений – своего рода анекдот в диалогах под названием «Мой внук Вениамин» – представляет собой вещицу, не лишённую известного изящества и ряда достоинств, к которым прежде всего должна быть причислена весьма удачная литературная имитация того, что называется в устной речи еврейским акцентом. Диалоги между главной героиней Эсфирью Львовной и её двоюродной сестрой, «резонёром» Елизаветой Яковлевной, – узнаваемы, порой по-хорошему остроумны, изобилуют удачными репризами (другое дело, что несколько многословны и развиваются по бесконечно повторяющейся схеме). Правда, вот у других, молодых персонажей данного камерного квартета – «овечкой» Сонечкой и рядовым СА Витей – на этом колоритном фоне слишком очевидны существенные проблемы. Последний и вовсе изъясняется в куда как своеобразной манере, заставляющей вспомнить действующих лиц даже не раннего Виктора Розова, а позднего Анатолия Софронова – при том, что датирован «Мой внук…» 1988 годом. Но в конце концов для семейно-бытовой «фарсы» – а сочинение имеет все «родовые признаки» именно этого драматургического подвида, пышно расцветавшего на российской сцене в начале позапрошлого столетия, – сие не бог весть какое прегрешение.
С пьесой «Семеро святых из деревни Брюхо», созданной уже в самый разгар перестройки, уже успевшей заявить о себе беллетристкой всё обстоит гораздо сложнее. Перед нами весьма качественное исполнение некоего зарубежного заказа, поступившего, кажется, из Франции и предполагавшего, насколько можно судить, изображение кровавых ужасов большевизма. Людмила Улицкая с задачей справилась на отлично. Главным образом за счёт точно найденной исторической первоосновы своей пьесы: вошедшая в патерик реальная история о зверском убийстве красноармейским продотрядом блаженной Евдокии и её хожалок, живших в нижегородской деревне Брюхо, – из числа заставляющих кровь стынуть в жилах. Но автору, продемонстрировавшему здесь и способность к стилизации, и умение добиться подлинно драматического (во всех смыслах слова) напряжения, и даже эффекта катарсиса, фактографического материала показалось как-то мало. Она до предела нагнетает мелодраматического ужаса, доводит всё до стадии едва ли не адского гиньоля, что далеко не лучшим образом сказывается и на жизнеподобии, и на суггестивности текста. А чего стоит хотя бы такой приём: для осуществления пролетарского правосудия главному красноармейскому извергу недостаточно собственной власти – точнее сказать, желая придать творящемуся кровавому беззаконию видимость законности, он рекрутирует в судебную тройку (речь, подчеркнём, идёт о 1918 годе!) двух людей из народа. И ими, натурально, оказываются… пьяница и блудница. Кроме того, тебя не оставляет ощущение, что сквернословят улицкие блаженные с куда большим жаром и страстью, нежели молятся. Но в конце концов законы гиньоля таковому, вероятно, вполне благоприятствуют.
А вот то, что касается последнего сочинения – пьесы, подарившей сборнику заглавие, то здесь весьма и весьма затруднительно как говорить о каких бы то ни было законах жанра, так и выделять хоть какие-либо привлекательные стороны. «ЛГ» уже разбирала сей сомнительный, постмодернистский перепев столь излюбленных современной драматургией «чеховских мотивов – и «морально устаревший», минимум лет на десять, и категорически не остроумный, называя вещи своими именами, пасквиль на российскую-советскую-«новорусскую» интеллигенцию.
Но вот парадокс – именно это сочинение «легетимизировало» драматурга Л. Улицкую. И вызвало к жизни целый сборник её пьес, изданный громадным тиражом. И активным образом ставится по стране.
Вот что значит для модного беллетриста вовремя вспомнить о ранних этапах своей творческой деятельности.

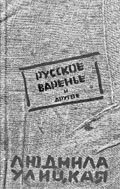 Людмила Улицкая.
Людмила Улицкая.