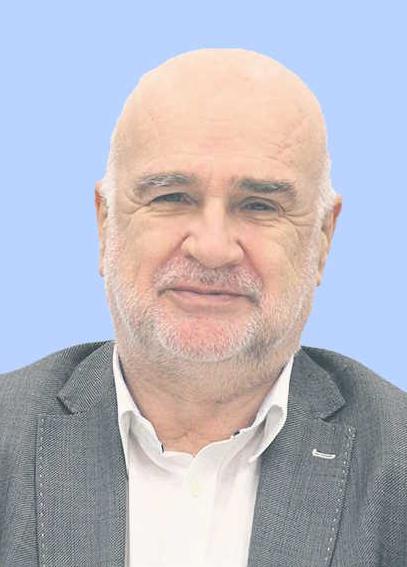
Александр Рудяков, доктор филологических наук, профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации
Я сейчас скажу одну вещь, которая вытекает из всех предшествующих этюдов, опубликованных в течение года в «Литературной газете», и является, на мой взгляд, краеугольной.
Для того чтобы продуктивно говорить о мельчайшей составной части языка и о самом языке, нужно точно понимать, что такое язык. Иначе говоря, нужно обладать адекватным определением языка. И русского языка в том числе! Да, да, для того, чтобы писать учебники по русскому языку для школы, для того, чтобы заниматься определением основ внешней и внутренней языковой политики, для того, чтобы понять, что это такое – государственный язык, и для многих других очень важных и актуальных задач, нужно отчётливо понимать, что такое язык!
Так же, как нужно знать, что такое автомобиль для того, чтобы его правильно использовать как транспортное средство. Так же, как нужно знать, что такое лекарство, чтобы не сделать его ядом.
Мы слишком часто теряем суть проблемы, используя слова, обозначающие какие-то сложные реалии, просто как этикетки этих реалий, не вглядываясь в их смысл, в их (по А. Потебне) «дальнейшее значение», довольствуясь обыденным, достаточным только для бытовой коммуникации «пониманием».
Применительно к русскому языку это становится настолько частым и обыденным, что вызывает острое желание вмешаться и попробовать навести порядок. Чем я, по сути дела, и пытаюсь заниматься в своей авторской рубрике. Честно говоря, давно планировал высказаться по поводу «каши» с пониманием феномена государственного русского языка. «Каши», опасность которой отчётливо осознал в 2014 году, принимая участие в создании Закона об образовании в Республике Крым, только что вернувшейся в «родную гавань». Планировал и… остерегался. Но та дискуссия, которая началась в «Литературке», возобновила и мои давние споры с моим коллегой и другом. Споры о «макростиле» и «социолекте»… Нет ничего более тягостного, чем межпарадигмальное непонимание. Тот, кто считает, что Солнце вращается вокруг Земли, никогда не согласится с тем, кто знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Я писал об этом в одном из прошлых «Этюдов», вспоминая пьесу Бертольда Брехта о Галилее.
Итак, что же такое язык? Определение языка вообще – это универсалия, это та сущность, которая свойственна всем языкам мира. И нашему русскому тоже.
Во-первых, язык не знаковая система! «Как так?» – с нажимом спросит языковед. «А Соссюр? А «Курс общей лингвистики»? А канон? А вечные истины?» Да знаю я всё это, знаю! Конечно же, естественный язык по своей «плоти», по своей субстанции, по своей природе – знаковый! Но знаковость языка не является его сущностью, так же, как деревянность не является сущностью бильярдного кия, обеденного стола, резных оконных наличников – и всех тех вещей из нами очеловеченного мира, которые возникают и существуют в нём не для того, чтобы быть деревянными или знаковыми, а для того, чтобы быть инструментами, орудиями, приспособлениями, средствами, материалами, для того, чтобы выполнять какую-то определённую функцию.
Поэтому вопрос, что это такое, предполагает только один правильный ответ: для чего это предназначено.
Каково же предназначение языка, если для его воплощения человек создаёт знаковость, уникальность которой мы не осознаём и которой не восхищаемся ежеминутно? Что именно настолько необходимо человеку, что он соединяет в знаковое единство материальное и идеальное?
Можно ответить стереотипнейшим штампом – что это коммуникация, но лучше и мудрее увидеть за «простым» обменом информацией более глубокий смысл – социальное взаимовоздействие, потому что, по моему глубокому убеждению, функция языка, то есть то, ради чего он возникает и существует в мире человека, – есть регуляция сознания собеседника, воздействие на его – собеседника – картину мира. Но для того, чтобы избежать здесь и сейчас излишних споров, довольствуемся малым: коммуникация, так коммуникация.
Итак, язык – это знаковое орудие коммуникации (которая есть форма осуществления регуляции, но об этом здесь не будем)…
И здесь для возвращения к нашей заявленной теме – государственному языку – пора задать очень важный и решающий вопрос. Вообще, вопросы в науке предельно важны: я обеими руками «за» высказывание философа Владимира Бибихина, гласящее, что наука только тогда наука, когда она способна к непрерывному продуцированию новых вопросов. Когда кому-то всё ясно и вопросов нет, наука исчезает, уступая место публицистике и педагогике…
Какой вопрос? Если язык орудие, то кому оно принадлежит? Иначе говоря, чьё оно? Кто именно его изобретает и им пользуется?
Языком вообще – человечество. Частным языком, например нашим – русским, – носители русского языка в Российской Федерации и за её пределами.
И вот здесь мы начинаем приближаться к пониманию того, что такое государственный русский язык, который зачем-то окрестили малопонятным «макростилем» и даже попытались вынести за пределы лингвистики. Нет уж! Наш это феномен. Наш! Вместе с языком литературным и вместе с… Стоп. О прочих – чуть позже.
Сказав, что пользователями русского языка являются его носители, мы должны отчётливо осознавать, что мы, будучи людьми образованными, обязаны говорить не о простом множестве отдельных индивидов, использующих русский язык, а о социуме, об обществе, в систему которого входят самые разные социальные группы, формирующие подсистемы социального целого: основными элементами (социальными единицами) социальной структуры выступают социальные общности, социальные институты, социальные группы и социальные организации.
Я утверждаю, что так же, как за общенародным русским языком стоит весь российский народ, так за каждой социальной разновидностью русского языка стоят разные социальные общности, социальные институты, социальные группы и социальные организации, привносящие в него свои особенности, обусловленные характером их деятельности. Именно они творят эти так называемые социолекты.
И к их числу принадлежат не только воровские арго, молодёжный и профессиональные жаргоны, но и многие иные – не включённые в вузовские учебники для младших курсов – разновидности общенародного языка, возникновение которых обусловлено особенностями той социальной общности, которая их использует в качестве орудия социального взаимовоздействия.
Это означает, что литературный русский язык не принадлежит некоему абстрактному эфемерному пространству, существующему только в воображении людей, повторяющих одну и ту же фразу о вершине развития общенародного языка (кстати говоря, любой социолект может подвергнуться кодификации; собственно говоря, составление словаря государственного языка и есть такая попытка). Носителями русского литературного являются представители определённой социальной группы. Определить её границы в нашем «сегодня» довольно сложно. Будем считать, что это интеллигенция во всём своём разнородном многообразии.
Это означает, что государственный русский язык так же, как и любая иная социальная по своей сути разновидность общенародного русского (не литературного! а именно общенародного), обязан своим возникновением и существованием особой социальной общности.
Сложность в разграничении социальных общностей носителей литературного и государственного русского языка объективна, потому что носители государственного языка и носители литературного языка образуют пересекающиеся нечёткие множества, характеризующиеся определённой степенью принадлежности. Это, кстати, касается не только носителей языка, но и его единиц. Приведу здесь наш старый и неоконченный спор с моим много и искренне уважаемым коллегой и другом Сергеем Кузнецовым касательно словарной статьи «язык». Я убеждён, что в словаре первым значением этого «многозначного» слова (спор о существовании так называемых «многозначных» слов здесь, конечно, неуместен, но не могу не привести здесь диагноз Л.В. Щербы, который остроумно назвал это явление «типографским») не должно быть вот это: «орган в полости рта в виде мышечного выроста у позвоночных животных и человека…»!!! И если в словаре литературного языка такой порядок расположения значений в словарной статье можно объяснить традицией, то в словаре государственного русского на первый план должно всё же быть выдвинуто более социальное и более лингвистическое значение.
На мой взгляд, не следует смешивать такие разные феномены, как государственный язык и терминосистема юриспруденции. Точность и однозначность, которая якобы присуща государственному языку, должна в идеале быть присуща системе юридических терминов. Так ли это, сказать не берусь, но стараюсь веровать.
Соотношение, взаимовлияние, взаимодействие литературного и государственного языков как социолектов общенародного языка – предельно сложный и требующий особого исследовательского внимания вопрос. Если кому-то кажется, что он недостоин общественного внимания и должен оставаться в кругу интересов теории русистики, отвечу, что это не совсем так, вернее, совсем не так. И понял я это на своём собственном опыте, принимая участие в обсуждении Закона об образовании в Республике Крым сразу после нашего воссоединения с Россией в 2014 году. Именно тогда я осознал, что вопрос об адекватном определении феномена государственного языка в высшей степени практичен и от его понимания зависят судьбы людей, так же как от решения нашего парламента зависели судьбы крымчан. Государственный язык – это орудие взаимодействия государства во всём многообразии его компонентов и гражданина, потому что в ту громадную социальную общность, которая взаимодействует с нашим государством, входим мы все, как мне кажется, без исключений.
Если кому-то кажется, что на простой вопрос (а он не прост) я даю слишком сложный (а он не сложен) ответ, то пусть этот кто-то осознает, что наш мир совсем не так прост, как нам хотелось бы.
Уверен, что спокойное непредвзятое обсуждение наших совсем не простых языковедческих феноменов пойдёт на пользу нашей стране. И начать нужно, на мой взгляд, не со споров, чей словарь правильнее, а с определения понятий, важность и актуальность которых делает их понимание не на подлинно научном, а на уровне здравого смысла непристойным.
Тем более что, с моей точки зрения, государственность русского языка на сложных этапах нашей истории важнее его литературности. Как ни странно прозвучит эта мысль из уст потомственного профессора-русиста. Правильно понимаемая государственность…

