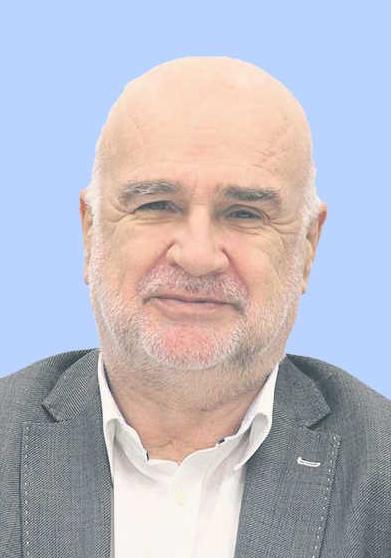
Александр Рудяков, доктор филологических наук, профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации
В предыдущем этюде я писал о том, что все инструменты и орудия, которые нас окружают в нашем мире, мы не обретали по какой-то счастливой случайности. Наши предки не находили их валяющимися на земле и не осознавали после недолгих раздумий, что вот эта «штуковина» – топор и мы будем с его помощью обрабатывать древесину (хотя я абсолютно убеждён, что первые «пратопоры» были не для воздействия на материю, а для «воздействия» на диких животных и людей; все первые орудия возникали как оружие). Нет, люди осознавали насущную необходимость какой-либо функции и искали для неё воплощение…
Нужно было воздействовать на древесину для её обработки – сначала очень примитивной – возникли топоры, которые на самом первом этапе не могли не быть каменными, потому что именно камень был самым прочным из доступных субстанций…
Человек ничего не получал «на блюдечке с голубой каёмочкой»: всё нужное, всё необходимое приходилось изобретать, воплощать и совершенствовать. Так было со всеми нашими «приспособами» и инструментами, начиная с самых простых, сыгравших – вопреки своей кажущейся «простоте» – огромную роль в становлении человека…
Нет в истории человечества более важного орудия, чем язык. Орудия, создавшего сам феномен социальности и человечности. Каким образом мы его обрели? Уж важнейшее средство социального взаимодействия точно не могло лежать на лесной тропинке в ожидании того, кто его найдёт и отнесёт шаману в надежде понять, что именно он нашёл…
Положа руку на сердце, признаем, что в подавляющем большинстве случаев наше представление о возникновении языка сводится к тому, что в один прекрасный день группа наших предков, сидя вокруг костра и доедая добытого мамонта, решила с этого момента: это будет именоваться «костёр», это – «мясо», а это – «человек»! И – понеслось. Кстати говоря, по степени достоверности эта «теория» не намного слабее многих кочующих из одного учебника в другой «теорий», главное назначение которых – заполнить пару-тройку страниц печатного издания.
Очень верю в то, что мы все осознаем невозможность создать слово «до» возникновения языка. Слово есть один из компонентов языка, и этот компонент не может возникнуть до целого. Так же, как и звук языка…
Проблема в том, каким образом мы наш язык определяем и понимаем. Если глубоко в нас засевшее представление о языке как громадной системе знаков доминирует, то мы никогда не найдём ответ на вопрос, как эта громадина могла возникнуть.
Если вернуться к моей аналогии в одной из предыдущих публикаций и сказать, что, если мы будем видеть в груде таблеток, ампул и капсул только таблетки и ампулы и будем пытаться понять, какая из этих таблеток возникла первая, мы никогда не увидим, что возникновение лекарства никак не связано с таблеточностью и ампульностью. И «груда» этих современных нам лекарственных форм обязана своим возникновением пучку травы или листвы, оказавшему нужное воздействие на организм человека.
Похожа травинка лекарственного растения на таблетку? Да!!! По функции! По способности оказывать позитивное воздействие на организм!
Кстати, и самый первый пратопор, бывший камнем, зажатым в руке, очень похож на современные нам топоры. Нужно только уметь видеть это функциональное сходство, абстрагируясь от абсолютного неподобия ампулы и куска древесной коры.
Этим неверным пониманием сущности естественного языка грешат все так называемые теории возникновения языка, среди которых самой достоверной закономерно становится «теория» божественного происхождения, согласно которой язык дарован нам высшей силой.
Ключом к решению проблемы возникновения языка является его адекватное определение. Определение – и я писал об этом неоднократно – даёт правила обращения с определяемой реалией. Если оно – определение – адекватно, мы успешно взаимодействуем с этим предметом или явлением.
Как только мы увидим язык таким, каким он, по сути своей, и является, то есть орудием регуляции, орудием воздействия на сознание собеседника, тайна его появления у человека станет намного прозрачнее.
Читайте Б.Ф. Поршнева! Я понимаю, что в эпоху господства иной научной парадигмы его «О начале человеческой истории. Очерки палеопсихологии» не входит в «джентльменский набор» источников, и чтение каторжное, но! оно того стоит!
Первые сигналы (два!), ознаменовавшие возникновение языка, человека и общества, не были и не могли быть словами. До возникновения знаков и слов ещё очень много веков и очень много усилий.
И мы никогда не узнаем, как именно эти сигналы звучали. Но именно их появление ознаменовало возникновение языка как орудия регуляции, как орудия воздействия. Один из этих сигналов прерывал действие безусловного рефлекса. Рефлекса животного, биологического инстинкта, важность которого для выживания живого существа невозможно переоценить. И это – невозможное в животном мире – прерывание было первым и чрезвычайно важным шагом к превращению нашего животного предка в предка социального. С этого момента мы и возникаем, вместе с нашим языком. И пусть он примитивен и скуден, но он «работает»: он позволяет воздействовать на ближнего. Да, он намного примитивнее, чем самый примитивный первый топор, но язык возник и дальше – многие века его совершенствования и превращения в нашу сегодняшнюю «систему знаков».
Самой наглядной аналогией для этого первого сигнала, на мой взгляд, является команда «фу!», которой мы обучаем собак на первых шагах их социализации, включения их в человеческое общество…
Язык не начинался с первого слова! Это сегодня мы без усилий придумываем новые слова. Потому что слово уже изобретено, но изобретено именно как составная часть языка, но не до его – языка – возникновения…
И конечно, кому-то покажется диковатым, что, дескать, непорядок: слов нет, а язык уже есть?
Да! Именно так! Осильте книгу Б.Ф. Поршнева, и вам всё станет понятно.
Я абсолютно убеждён в том, что адекватное определение любой реалии способно позволить решить самые сложные проблемы. Может быть, пора дать определение языка и в федеральном образовательном стандарте? А вдруг это поможет нашим детям в их нелёгком пути к обретению образования? А то ведь изучать автомобиль, не зная, что он есть транспортное средство, довольно опасно: многие детали, например колёса, могут показаться лишними.

