Михаил Попов
Помнится, Евгений Замятин считал, что «вредная» литература полезнее «полезной». В его рассуждениях была своя логика.
«Полезная» литература или считающаяся таковой, как правило, не пользуется никаким вниманием читателя. «Вредная», напротив, способна пробудить в читателе мысль, желание действовать и т.п. Надо сказать, что я не совсем согласен с Замятиным. С его слишком грубым разделением всей литературы всего лишь на две большие группы. Ведь литература может быть и «полезной», и прелестной одновременно. И так же «вредной» и в самом деле отвратной. Мне больше нравится другой способ деления. На литературу трогательную, заинтересовывающую, смешную, вызывающую потрясение. Легко видеть, что самый простой путь – это «тронуть» читателя, отсюда популярность «Муму» и «Белого Бима…». Заинтересовать читателя уже труднее. А уж рассмешить… Высший разряд – потрясающее сочинение в прямом смысле слова, трясущее душу.
Ещё тут нужно заметить, что читатели делятся на тех, чьё мнение о том, какая литература полезна, а какая вредна, важно, и на тех, чьё мнение не слишком важно. Первые, если они решают, нужно или не нужно публиковать конкретное произведение, называются цензорами.
О том, как регулируются сейчас отношения в той сфере, где решается, «можно – нельзя» печатать, я не знаю. С сегодняшними законами и установлениями в Российской Федерации в этой области я не знаком. Кое о чём, конечно, догадываюсь.
Тут важно помнить, что в каком-то виде цензура существовала в мире всегда. Менялись только виды её и формы. Скажем, в древних Афинах ареопаг цензурировал трагедии Софокла, перед тем как выпустить их на публику. В Древнем Риме такого внимания на трагедии не обращали, но вчитывались ревниво в творчество поэтов, Марциала и прочих.
Конечно, моё мнение субъективно, но наличие цензуры, на мой взгляд, свидетельствует о наличии государства. И потом, почти приятно осознавать, что у тебя всегда есть читатель (цензор), даже когда у тебя нет читателей.
Кроме того, помимо официальной, государственной цензуры есть ещё цензура общества. Вспомните «кошачьи концерты», которые устраивала Писемскому студенческая молодёжь. Да и в наше время существует цензура «тусовки», и её вердикта многие писатели больше боятся, чем неудовольствия власти.
«Живите опасно!» – сказал один литератор. Граница свободы расположена где-то поблизости от чувства опасности. Напишешь ли ты книгу, если будешь знать, что от тебя отвернутся все твои друзья или к тебе рассержено повернутся представители власти? Наверно, напишешь, но опубликуешь ли? По-моему, только достаточно свободный человек может судить о том, где она начинается и оканчивается, свобода. Самоцензура может быть и осмотрительностью, и великодушием.
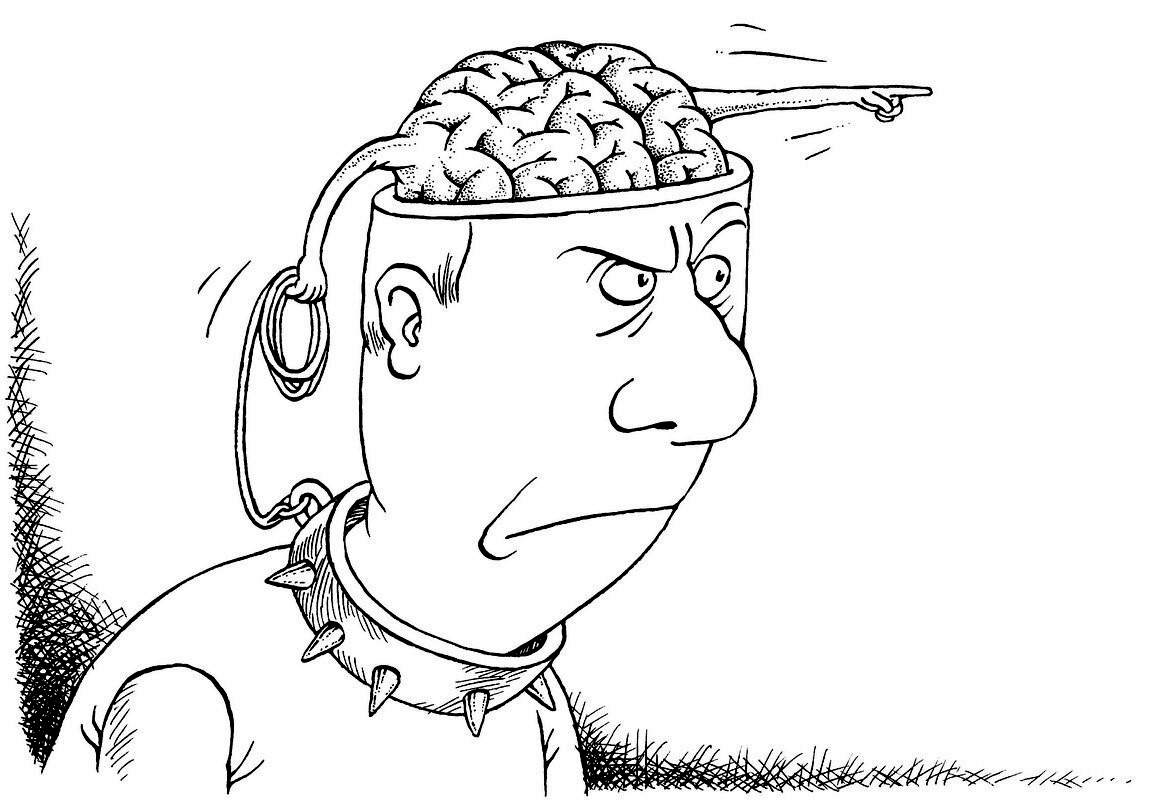
Не могу не предаться воспоминаниям. В молодые годы я работал в отличном журнале «Литературная учёба». Журнал, естественно, цензурировался, и меня отправляли, чтобы я получил гранки с пометками контрольного учреждения. Я-то помнил, как изгалялись редакторские карандаши над некоторыми текстами, какие наносили им раны, и поэтому всегда поражался тому, какое малое участие принимала в редактировании материалов собственно сама цензура. Наше редакционное сообщество в советские времена яростно бежало впереди цензурного паровоза. Так глубоко внутрь был загнан внутренний редактор в те времена.
Себе, что характерно, писатель ещё немного позволял пофрондировать, но, оказавшись редактором-цензором, вдруг включал в себе ярого государственника и крушил текст собрата.
Честно говоря, у меня нет какого-то отстоявшегося мнения о том, каковы должны быть взаимоотношения писателя и государства. В Советском Союзе всё было ясно: мы пишем, власти благодарят премиями, квартирами, дачами т.п. А что сейчас, затрудняюсь сформулировать. Когда организовывали Союз писателей, спросили у Сталина, к кому социально приравнять будущего члена СП. Он сказал: «К полковнику». А что теперь? Сплошные дети лейтенанта Шмидта. Это всего лишь каламбур, да и неудачный, наверно.
Вот мои разрозненные и сумбурные заметки на тему.


