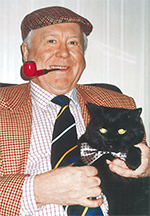Михаил Любимов
Продолжение. Начало в № 26
На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин назвал нарушение Западом обещания не расширяться на Восток одной из ключевых причин начала специальной военной операции. А то, что такое обещание было, подтверждает и возглавлявший в начале девяностых ЦРУ Роберт Гейтс: «НАТО продолжало расширяться на Восток, хотя Горбачёва и других убеждали, что этого не произойдёт». Какую роль в распаде социалистической системы сыграли Соединённые Штаты, особенно с учётом того, что, по словам Гейтса, 58% бюджета разведывательного сообщества уходило на Советский Союз и страны Варшавского договора? Что предопределило исход холодной войны? Продолжаем публикацию рецензии ветерана внешней разведки СССР писателя Михаила Любимова на мемуары бывшего директора ЦРУ США Роберта Гейтса.
Гейтс не объясняет распад соцлагеря зловредными действиями своей организации. Для горячих голов, считавших, что в Восточной Европе США могли действовать как в Никарагуа, Чили или Гренаде, он холодно замечает: «Буш мог сделать мало, чтобы подхлестнуть или убыстрить революции 1989 г. Американский президент мог сделать много, чтобы сбить с пути или затруднить эти революции».
Из мемуаров Гейтса явствует, что ЦРУ – всего лишь одна из составляющих в инструментарии американской внешней политики, использующей политические, экономические, финансовые, пропагандистские и другие рычаги. ЦРУ совсем не нужно дирижировать работой банков и монополий, они и без этого активны в рамках правительственной линии. Зато уже после «бархатных», «нежных» и прочих «цветных революций» американская разведка развернулась, поспешила заполнить вакуум и закрепиться на новых рубежах. Все разговоры о «новом мышлении» были моментально забыты, в силу вступили незыблемые законы Realpolitik.
«ЦРУ в конце 1989 и начале 1990 года быстро установило контакты со службами безопасности новых демократических правительств в Восточной Европе, – откровенничает Гейтс. – Цели сводились к тому, чтобы получить информацию о советских шпионских операциях совместно со спецслужбами ОВД, оказать поддержку новым службам, стремившимся утвердить свою независимость от КГБ, получить доступ к военному и кагэбэвскому коммуникационному оборудованию, а также заложить основы для будущего сотрудничества».
В своих мемуарах Роберт Гейтс делает характерное признание, которое отнюдь не укрепляет его имидж правого и проницательного политика, выигравшего холодную войну и рвущегося на пьедестал в истории. «Небольшая группа людей, утверждавших, что США могли с помощью гонки вооружений поставить всю советскую систему на колени, рассматривалась в Вашингтоне как правые экстремисты, – пишет Гейтс. – Должен признаться, что я со своими коллегами по ЦРУ был склонен согласиться с этим мнением».
Тем не менее Гейтс отнюдь не рассматривает СССР как миролюбивую державу: «Экономическая слабость и конечный политический коллапс СССР затуманили память у многих в отношении целенаправленности, масштабов и угрожающего характера советской военной мощи с 1962-го по начало девяностых годов».
Нашей экономикой ЦРУ занималось тщательно и постоянно, с акцентом на военную промышленность. Да и Гейтс не скрывает, что ЦРУ тайно приобретало разные виды советского вооружения, военные уставы, учебники, вербовало учёных и инженеров, занятых в советском ВПК, собирало информацию о положении внутри Варшавского пакта.
Приход Горбачёва к власти в апреле 1985 года и личность нового генсека занимают много места в мемуарах экс-директора ЦРУ. Но Гейтс не пытается представить свою «контору» как организацию, вмиг раскусившую нового лидера СССР, его оценка Горбачёва постепенно меняется вместе с изменениями в политической ситуации в СССР.
«ЦРУ с энтузиазмом относилось к Горбачёву с момента его появления в начале 1983 года, как протеже Андропова, – вспоминает Гейтс. – Мы многое о нём знали. Несмотря на это, потребовалось несколько лет, чтобы понять его, оценить его мужество и смелость, а также противоречия и границы его мужества и смелости... Много лет спустя его противники из консервативного лагеря стали утверждать, что он и его сподвижник Яковлев были агентами ЦРУ. Они оными не были, и это хорошо! Вряд ли мы смогли бы столь успешно управлять ими для разрушения советской империи».
Что ж, чувство юмора здесь не помешает. Только непрофессионалы и фанатики видят в совпадении политических линий все признаки «агента влияния», хотя, конечно, и такие тоже встречаются.
«В то же время у нас не было иллюзий относительно Горбачёва, – оговаривается Гейтс. – Мы знали, что он пришёл к власти как обыкновенный партийный чиновник. Меня волновало, что у нас отсутствовало нечто фундаментальное о Горбачёве – твёрдость, «железная хватка, соседствующие рядом с милой улыбкой», как говорили в то время. В конце концов, протеже Андропова и Суслова не мог быть сплошь сладким и светлым».
В секретном документе середины июня 1985 года под названием «Горбачёв – новая метла», переданном главе ЦРУ Кейси для доклада Рейгану, отмечалось: «В то время как некоторые советские чиновники указывают, что он симпатизирует прагматическим методам, включая стимулирование частной инициативы, его заявления и действия свидетельствуют о его полной приверженности существующей экономической системе и желании её улучшить». Или: «Несмотря на наличие идей и программ, вскоре стало очевидным, что у Горбачёва отсутствовала стратегия. Во внутренних делах он оставался верен коммунизму. Он считал, что государство, созданное Лениным, было радикально изменено и деформировано Сталиным и его последователями». По мнению Кейси, Горбачёв и его команда «не реформаторы и не либералы во внутренней и внешней политике». Отсюда совет: необходимо наращивание военной мощи, укрепление НАТО, активное участие в делах регионов мира, активное идеологическое противодействие антигуманным чертам советской системы.
«Но если эта точка зрения вызвала восторги министра обороны Уайнбергера, то госсекретарь Шульц был возмущён агрессивностью и твердолобостью шефа ЦРУ, – пишет Гейтс. – Шульц в своих мемуарах открыто высмеивает не только анализ Горбачёва, подготовленный ЦРУ, но и все заключения о нём экспертов в Госдепе. Наши знания о Кремле были невелики, и ЦРУ обычно ошибалось». Впрочем, по свидетельству бывшего шефа американской разведки, Никсон, Киссинджер и бывший министр обороны Лэйрд тоже отрицательно относились к результатам деятельности ЦРУ.
Ясно, что внутри американской администрации фигура Горбачёва вызывала большие споры, и после многих переоценок Гейтсу нетрудно написать: «Михаил Горбачёв в 1986–1987 годах провёл серию политических, экономических, социальных и этнических мероприятий, которые, по его мнению, долженствовали освободить СССР от прошлого и расчистили поле для нового роста. Ни ему, ни его сподвижникам не приходило в голову, что события вырвутся из-под контроля, создав костёр, который поглотит и его, и систему, которую он стремился спасти. Труба его лидерства звучала неуверенно, ибо мировоззрение его было ограниченно».
Интересно, что ЦРУ, как и Горбачёв, недооценивало остроту этнических проблем в СССР, хотя поддержка антисоветских националистических организаций за рубежом всегда занимала почётное место.
«Наши усилия были сконцентрированы на событиях в Москве, и мы только начали понимать, какими куцыми и недостаточными были информация и её анализ о ситуации в нерусских республиках и среди этнических групп, – пишет Гейтс. – Кроме некоторых пропагандистских материалов, тайно ввезённых в Среднюю Азию в середине 80-х, рассказывавших о подавлении Советами ислама и среднеазиатской культуры, ЦРУ не создавало никаких трудностей для центрального правительства. ЦРУ предлагало это делать, но ни Рейган, ни Буш не согласились».
1989 год в СССР был насыщен событиями, и тут Гейтс приоткрывает занавес, за которым ворожат мировыми делами отнюдь не провидцы, а сомневающиеся политические деятели: «Если говорить правду, американское правительство, включая ЦРУ, не мыслило в январе 1989 года, что волны истории обрушатся на нас. Конечно, мы понимали, что в Советском Союзе шли драматические перемены, но было неясно, реформы ли ожидают нас впереди или же возвращение к репрессиям, если экономический кризис или агрессивный национализм начнут подрывать государство и социальный порядок».
Далее следует не менее сильный пассаж: «Кое-кто стал слишком мудрым и дальновидным в своих воспоминаниях, но я не знаю ни одного человека внутри или вне правительства, который предсказывал бы в начале 1989 года, что перед следующими президентскими выборами Восточная Европа будет свободной, объединённая Германия войдёт в НАТО, а Советский Союз станет достоянием истории».
Особый акцент делает Гейтс на Первом съезде народных депутатов, проходившем с 25 мая по 9 июня 1989 года и показанном по телевидению: «Страна впервые увидела политику, живых лидеров, и психологический эффект был огромен. Этот эффект не предвидели ни Горбачёв, ни ЦРУ».
«Если бы вы решили разрушить Советский Союз, действовали бы вы по-другому?» – заметил Генри Киссинджер о курсе Горбачёва во время доклада Гейтса осенью 1989 года. Видимо, эта шутка была в ходу в Белом доме. Однако отношение ЦРУ к Горбачёву постепенно менялось.
«13 июля 1990 года я послал президенту меморандум, требовавший изменения отношения США к Горбачёву, – вспоминает Гейтс. – Я писал, что внутри страны Горбачёв всё больше рассматривается в целом неблагоприятно, как нерешительный человек, «балаболка» и как лидер, не предлагающий выхода из существующего печального положения, в которое он вверг СССР. Затем я предлагал «деперсонализировать» нашу поддержку реформ в Советском Союзе. Реакция президента была двойственной. Он написал: Бренту и Бобу (помощник президента и сам Гейтс. – М. Л.): «Хороший материал для размышлений. Совет здравомыслящий, однако, как пока кажется, Горби выживет».
Обобщая и окончательно выписывая кистью ЦРУ образ «отца перестройки», Гейтс пишет: «Михаил Горбачёв имел три уязвимых места, обеспечивших его фиаско в стране и ускоривших распад Советского Союза. 1. Он верил, что коммунистическое правление в Советском Союзе можно реформировать, сделать более компетентным, удержаться у власти. 2. Он считал, что советская экономика может быть оживлена при централизованном контроле, социалистической промышленности и коллективном сельском хозяйстве. 3. Он верил, что восточные европейцы и нерусские национальности в СССР останутся частью реформированной и более демократической советской империи».
Если после долгих метаний ЦРУ и сделало вывод в отношении Горбачёва, то Ельцин долгое время оставался для американцев загадкой и «неудобоваримой» персоной.
Вот что писал Гейтс о первом визите Ельцина в США:
«Поездка Ельцина в Соединённые Штаты в сентябре 1989 года не принесла ничего хорошего для его репутации. Очевидно, он слишком много пил, произвёл неважное впечатление во время речи в университете Джонса Хопкинса и выглядел плохо воспитанным. Ему сказали, что, возможно, он встретится с президентом, но поскольку мы хотели, чтобы визит выглядел как можно незаметнее, абсолютной гарантии ему не дали. Его ввели в комплекс Белого дома с бокового входа на West Executive Avenue, чтобы не видела пресса. Когда он вошёл, то заартачился и отказался идти дальше без гарантий, что он встретится с президентом. После короткой, но весьма напряжённой дискуссии между ним и Кондолизой Райс одна хрупкая молодая дама взяла Ельцина под локоть и фактически протолкнула его на лестницу, ведущую в кабинет Скоукрофта (генерал Брент Скоукрофт, в то время помощник президента США по национальной безопасности. – М. Л.). Там он снова заупрямился, ибо не хотел взять на встречу всех своих помощников. После урегулирования всего этого он уселся вместе с Брентом, Райс и мною для разговора...
Ельцин монотонно и длинно изложил десять предложений о том, как Соединённые Штаты могли бы помочь советской экономике. Пока он говорил, я увидел, что Брент засыпает, и вскоре он отключился. Он захрапел, когда Борис Ельцин рассказывал, как нужно управлять Советским Союзом. Ельцин был настолько сосредоточен, что даже не заметил, какой эффект он произвёл на аудиторию. Но всё его поведение изменилось, как только появился и присел за стол президент. Ельцин трансформировался, словно хамелеон. Он стал живым, полным энтузиазма, интересным. Ясно было, что, с его точки зрения, наконец прибыл человек, обладающий властью, и с ним можно говорить. Около 20 минут Буш и Ельцин вели приятную беседу, дух которой не угас, когда президент высказал свою поддержку Горбачёва».
Американцы отнеслись к Ельцину сдержанно и отнюдь не видели в нём будущего лидера России. «Я считаю, что важным фактором, повлиявшим на изменение подхода Буша и Скоукрофта к Ельцину, стал визит Ричарда Никсона в Москву в конце марта и его личное послание Бушу в апреле, когда он дал высокую оценку Ельцину», – пишет Гейтс.
6 июня 1990 года Гейтс направил меморандум Бушу, указав, что американцы недооценили Ельцина: «Он представляется эффективным и популярным политиком, хотя и сумасбродным». Однако почти до самого переворота 1991 года, несмотря на сигналы ЦРУ, американское правительство держалось за Горбачёва и делало на него ставку.
«Ельцин встретился с Бушем 20 июня 1991 года, – напоминает Гейтс. – Это уже был «новый Ельцин». Он вырос вместе с ростом своей ответственности. Он был хорошо одет, его поведение было солидным и серьёзным. Он действовал как человек, к которому следует относиться серьёзно и который ожидает именно такого отношения».
Интересно, что к моменту встречи тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов уже предупредил американского посла Мэтлока о готовящемся перевороте и просил проинформировать об этом Ельцина, что после сообщения Мэтлока Буш и сделал.
«Ельцин выглядел озабоченным, но не взволнованным, – пишет Гейтс. – Он и предложил, чтобы мы позвонили и сообщили Горбачёву».
Казалось бы, тогда ЦРУ уже владело ситуацией и американское правительство, по идее, было морально готово к перевороту. По воспоминаниям Гейтса, в мае 1991 года ЦРУ сообщило президенту и его главным советникам, что лидерство Горбачёва на советской политической сцене закончилось и «уже не восстановится». Вот что пишет Гейтс: «Успех переворота казался обеспеченным, исходя из прошлых событий в СССР. К понедельнику 19 августа французский президент Миттеран публично фактически принял переворот как свершившийся факт. Первая реакция Буша рано утром была двойственной, но осуждающей». Гейтс признаётся, что утром 19 августа они не понимали, что происходит в СССР. «Почему демократическая «оппозиция» в стране и даже в Москве не арестована?» – удивлялся директор ЦРУ. Напомним, что позиция Буша ужесточилась лишь после получения письма Ельцина с призывом о поддержке.
Бывший директор ЦРУ заканчивает свою «сагу о Форсайтах» на распаде СССР, о чём впервые как о возможной реальности, по его словам, заговорили на совещании близкого окружения президента лишь 5 сентября 1991 года, спустя две недели после путча.
«Чейни, министр обороны, был наиболее агрессивным участником, – вспоминал Гейтс. – Он говорил: «Развал СССР в наших интересах. Если он доброволен, возможно какое-либо объединение республик. Если демократия проиграет, нам выгоднее, чтобы оставшиеся куски СССР были маленькими». Но Бейкер выступал против и отмечал, что «мирный развал в наших интересах, но это не должен быть развал югославского типа».
О действиях ЦРУ после развала СССР, возможно, расскажет другой американский деятель, но формы и методы работы американской и западных разведок не изменились, разве что к ним добавились новые технические средства, открытые учёными.