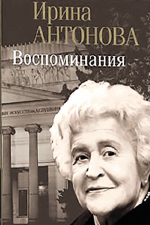
Ирина Антонова. Воспоминания. Траектория судьбы. М.: АСТ, 2021. – 256 с. – 3000 экз. – (Биография эпохи).
В аннотации к книге Ирина Александровна Антонова названа «легендарным директором» Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, где она проработала семьдесят пять лет.
В Толковом словаре Владимира Даля слово «легенда» определяется как «преданье о чудесном событии». Событие действительно чудесное: проработать 75 лет в одном музее, из них почти 68 лет директором, – это удивительно и похоже на чудо. Где-то читал о высказывании Д.С. Лихачёва, который якобы говорил, что в музее надо работать долго – желательно всю жизнь. В прочитанных мною книгах академика я этих слов не нашёл, но он вполне мог так сказать. Д.С. Лихачёв хорошо знал природу музея: музей способен «приковать» к себе так, что работающий в нём сотрудник не мыслит себя вне его обстановки, его атмосферы, и его собственная аура как бы сливается с музейной. Да, музей – это живой организм, а не бездушное хранилище, и он обладает собственной аурой. Ауры ГМИИ имени А.С. Пушкина и И.А. Антоновой совпали на долгие годы.
Автор часто называет ГМИИ имени А.С. Пушкина «моим музеем». Думаю, она имеет на это право. Нет в этом никакого самодовольства, самовозвеличивания, а есть любовь к своему делу и именно «к своему» музею. Вот и М.Б. Пиотровский в 2014 году издал книгу, назвав её «Мой Эрмитаж». В самой первой главе этой книги «Кому принадлежит Эрмитаж» он пишет: «Мой Эрмитаж – общий Эрмитаж и мой собственный». Тоже имеет на это полное право!
Удивителен и уникален путь И.А. Антоновой к музею: с детства страстно желала танцевать, стать балериной, увлеклась театром, решила поступить на мехмат и даже занималась репетиторством по математике, зарабатывая небольшие деньги. В юном возрасте, пишет Антонова, плохо разбиралась в изобразительном искусстве, и нравились ей самые банальные картины: «Алёнушка», «Три богатыря», какие-то портреты. По её собственному признанию, решение поступать на искусствоведческий факультет приняла очень легкомысленно. «Я бы не сказала, – пишет она, – что это было моё призвание, какое-то глубокое увлечение, безумный интерес. Всё говорило о том, что мне стоило учиться на театрального критика. Театр – это другое… Я обожала его с самого детства». Интересно, что объектом своей первой студенческой работы, когда требовалось описать и проанализировать любую интересную для неё картину, Ирина выбрала портрет Ермоловой кисти Серова – «и не потому, что знала и понимала творчество Серова, а потому, что Ермолова была звездой Малого театра». Так начинался её путь к глубоко профессиональному знанию итальянской живописи эпохи Возрождения. И не только итальянской. Да, И.А. Антонова оставила немного научных работ, но её многолетний практический вклад в музейное дело, пропаганда и популяризаторство зарубежного изобразительного искусства не могут не оценить высоко наши современники – представители не одного, а нескольких поколений. Занять пост директора музея? Ирина Александровна об этом и не думала, и для неё стало полной неожиданностью, что она была рекомендована занять директорский кабинет.
Энциклопедические знания И.А. Антоновой и её подвижническую деятельность ценили специалисты, коллеги-музейщики со всего мира. Довелось быть свидетелем её беседы с директором Миланской Пинакотеки Брера синьорой Сандриной Бандера в ноябре 2011 года при открытии в этом музее выставки работ импрессионистов из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина. Мы подошли к шедевру Андреа Мантеньи «Мёртвый Христос», и Ирина Александровна буквально вымаливала у директора согласие на направление этого живописного полотна на выставку в Москву. Но та была непреклонна – ответом было твёрдое «Нет!». Разумеется, со ссылкой на нестабильное состояние полотна. Но по некоторым картинам ответы были более благоприятными. Профессиональная беседа шла на итальянском языке, и было видно, что именно авторитет И.А. Антоновой, её глубокое знание предмета склонили итальянку к положительным ответам на другие просьбы Ирины Александровны. И таких случаев при организации выставок в ГМИИ имени А.С. Пушкина было много – реагировали именно на Антонову! В аннотации к книге говорится о том, что с Ириной Александровной «дружили президенты, политики и послы разных стран, считая для своих государств большой честью предоставлять музейные коллекции в Московском пушкинском музее». Это так. Но, зная музейных людей, скажу, что они и президенту, не говоря уж о послах, могут сказать твёрдое «нет», если есть малейшие сомнения в целесообразности направления экспоната за рубеж.
Могу с уверенностью утверждать, что книга воспоминаний И.А. Антоновой может многих разочаровать. Открывая её, ожидаешь узнать подробности о повседневной музейной жизни, о реставрации экспонатов, о том, как готовились и проводились многочисленные выставки, о том, как возникла и была реализована идея проведения «Декабрьских вечеров», о перипетиях, связанных с созданием «музейского городка». И о многом другом. Ничего этого в книге нет. Только о некоторых знаковых выставках сказано очень коротко. А хотелось бы больше. Но худший вид рецензии на книгу – это тот, в которой она критикуется за то, чего в ней нет. Да, многого нет. Говорится о семье, о детстве и юности, о годах войны, о некоторых дружбах и привязанностях. Говорится коротко, простыми короткими предложениями. Судя по всему, Ирина Александровна надиктовывала их на диктофон. Не думаю, что она занялась бы «украшением» текста, если бы имела такую возможность. Широко известен французский фразеологизм «Стиль – это человек». И.А. Антонова была человеком жёстким, прямым, откровенным. Была бы иным – не добилась бы того, что сделала в жизни. А сделала много.
Когда читаешь книгу, чувствуешь характер автора. Те, кто знал Ирину Александровну, читая её воспоминания, наверняка «услышат» её голос. Я слышал, когда читал. В её голосе звучали нотки сожаления: об этом не спросила, этого не узнала. а сейчас уже поздно, спрашивать некого. Но не только это проглядывает в её голосе, что звучит за (и поверх) строками книги: это тема одиночества. Она была очень требовательной к себе и к другим. А требовательность к другим часто воспринимается в штыки. Но – такой характер! Наверное, Ирина Александровна и хотела бы хотя бы немного изменить его, но – не смогла. Не будем её винить за это. Идеальных людей вообще не бывает. И, как видно из воспоминаний, Ирина Александровна себя идеальным человеком отнюдь не считала.
Самая объёмная глава книги – «Музей нового западного искусства». В начале её автор пишет: «Так что же всё-таки заставило меня начать писать эту, наверное, последнюю попытку автобиографии»? Думаю, судьба Музея нового западного искусства».
Да, возрождение этого музея в Москве И.А. Антонова в конце концов стала считать главным делом своей жизни. Её обвиняют в «музейной войне», которую она развязала, утверждая, что коллекции Щукина и Морозова должны быть воссоединены в Москве, для чего следует изъять из Эрмитажа в своё время переданные в этот музей полотна из ликвидированного в 1948 году музея. В 2013 году, во время «прямой линии» с президентом, она обратилась с просьбой вернуть в Москву изначально принадлежавшие ей шедевры. М.Б. Пиотровский обвинил И.А. Антонову в нарушении сложившейся музейной этики: «через голову» музейного сообщества она обратилась к главе государства. В результате всё получилось в соответствии с законом физики: сила действия породила равную ей силу противодействия. Иначе и быть не могло: в музейном мире признано (и это зафиксировано федеральным законодательством), что сложившиеся музейные коллекции неделимы. И это правильно: только начни их перераспределять – ожидай нескончаемой цепочки взаимных претензий и всеобщей смуты. Антонова об этом знала? Конечно! Занималась саморекламой, призывая возродить музей, уничтоженный ещё при Сталине? Да нет, конечно! Это характер! Жёсткий, непреклонный, безоглядно горячий. Ещё в юности поразили и глубоко ранили её нелепые формулировки постановления правительства 1948 года, согласно которым Музей современного западного искусства в Москве содержит в своих коллекциях безыдейные, антинародные формалистические произведения буржуазного искусства, лишённые прогрессивного воспитательного значения для советских зрителей. И боль от этой раны сохранилась на всю жизнь. Были у неё и другие резоны. Один из них – коллекция собрана в Москве, собрана москвичами. Да, импрессионисты – западные художники, но яркие краски их произведений так органично вписались в столичное окружение, имеющее явные азиатские черты. Под небом Петербурга они не так смотрятся! Ирина Александровна всегда подчёркивала (и в её книге об этом есть), что увидеть произведение искусства «на своей почве» очень важно.
Кстати, в развязанной Антоновой словесной «музейной войне» даже инфарктов не было, контрибуции не выплачивались. Было принято верное решение организации совместных межмузейных выставок, на которых демонстрировалась бы единая коллекция, собранная Щукиным и Морозовым. В итоге эта «война» принесла весомый пиар-эффект: интерес к российской коллекции импрессионистов как у нас, так и за рубежом возрос в разы! Вот искусствовед Кира Долинина пишет в «Коммерсанте» о «знаменитом проекте» – выставках о коллекционерах Щукиных и Морозовых, которые с 2016 года проходят по кругу в ГМИИ, Эрмитаже и выставочном зале Луи Виттона в Париже. А кто всё это затеял? Да всё она – неуёмная Ирина Александровна Антонова! Та самая, в адрес которой Долинина высказала много несправедливых и даже злых слов в рецензии на книгу её воспоминаний.
Изданные «Воспоминания» далеко не закончены автором. На 131-й странице есть примечание: «На этом записи воспоминаний Ирины Александровны Антоновой заканчиваются. Их прервал её уход». На последующих страницах книги до 253-й включительно размещён раздел «История в фотографиях». Снимки дополняют воспоминания И.А. Антоновой, а пояснения к ним Л.С. Дубовой «служат своеобразным путеводителем по тому удивительному миру, в котором она жила и который творила своими руками» – так сказано в предисловии к этому разделу. К слову сказать, комментарии Лилии Дубовой к фотографиям очень информативны.
Книга И.А. Антоновой хорошо издана, подобраны прекрасные цветные фотографии автора, предваряющие книгу. Хочется сделать только одно замечание. Если бы книга была названа «Незаконченные (или прерванные) воспоминания», это помогло бы избежать недоумения некоторых читателей по поводу того, что сказано далеко не обо всём и зачастую не о самом главном.
Андрей Бусыгин
