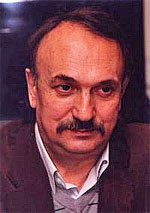Народный артист России Николай Буров написал удивительную книгу о своём времени, назвав её «Маятник Фуко. Нарративные этюды о жизни, театре и Исаакии».
Искушённый читатель, знакомый с судьбой Бурова, легко догадается, почему в названии упомянут физический прибор. Для несведущих поясню: Николай Витальевич девять лет служил директором музея «Исаакиевский собор», где в давние советские времена маятник Фуко, закреплённый одним концом под куполом собора, другим (с тяжёлым грузиком) сшибал, раскачиваясь по гигантской амплитуде, брусочки и спичечные коробки на полу, воочию подтверждая вращение Земли вокруг своей оси. Впечатление – на всю жизнь!..
Чем удивила меня его книга? Глубиной и чистотой мысли, изумительным слогом. Удивила прекрасной композицией, где есть место и краткому, в один абзац, лирическому отступлению о котах, и глубокому историческому эссе о взаимоотношениях церкви и молодого Советского государства в первое послереволюционное десятилетие. Казалось, что я достаточно неплохо знаю автора – обаятельного и толкового человека, сотрудничать с которым мне повезло на протяжении четверти века. Но читаю и завидую: это целая энциклопедия культурной жизни Ленинграда – Санкт-Петербурга, написанная человеком, бывшим, что называется, в гуще событий. Я бы тоже хотел написать такую книгу – умную и нежную в словах, острую в мыслях. Чтобы в ней не сводить счёты с прошлым, не выставлять врагов и недоброжелателей глупцами и негодяями, не подхваливать себя тайно или явно, надеясь услышать за шелестом страниц аплодисменты поклонников. Так пробежать по клавишам собственной жизни, чтобы прозвучала симфония, а не какофония случайных зарисовок.
Снова о маятнике. В одной из глав автор отчётливо связывает духовное и физическое: «Творец позаботился и одарил всех нас маятником Фуко – безукоризненно убедительной возможностью гениально простого и непосредственного физического наблюдения за соединением каждого элемента мира с целой Вселенной и её центральной точкой». И ты понимаешь, что название книги открывает сакральный план повествования, понятный и атеистам, и глубоко верующим. Все мы под Богом, природа и её творец связаны видимой и невидимой нитью, Земля – гигантская карусель, на которой нам выпало крутиться, и пока вы читали эти строки, гигантский маятник – пусть ныне и невидимый – сшиб энное количество брусочков и коробков. Без паники, товарищи, крутимся дальше!
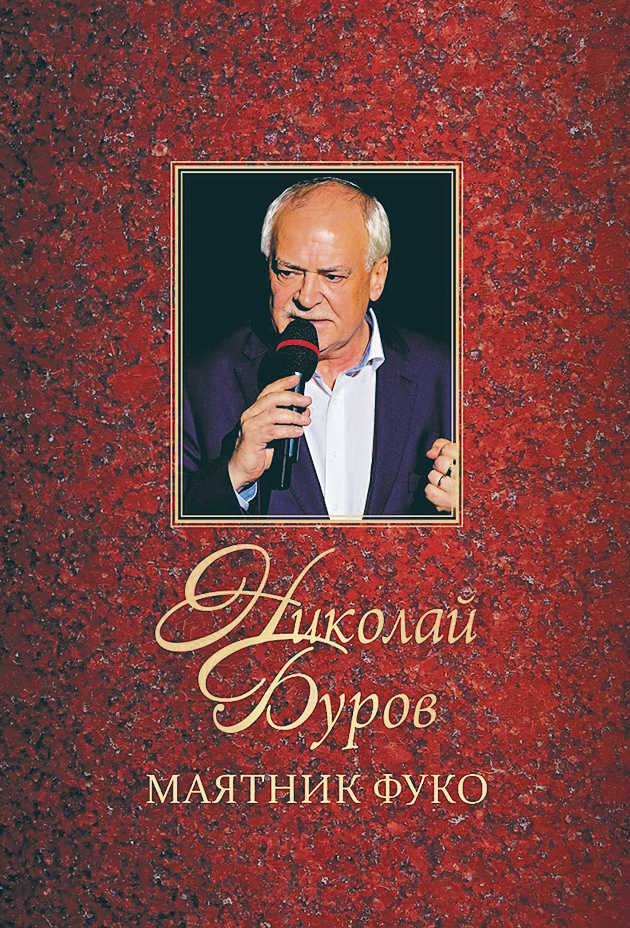
Непоказная любовь
В огромном хорошо изданном фолианте есть свой (нарративный!) взгляд на культуру Северной столицы, обычную жизнь, которая только с виду кажется обычной, есть театр с его переживаниями на сцене, в зале и за кулисами, много чего есть в этой ладной и симпатичной книге. Есть непоказная любовь к родному городу, к детству, прошедшему в железнодорожном доме на улице Полярников, что в Невском районе возле Императорского фарфорового завода. Есть изумительный язык и ясность мысли, есть рассуждения об определённых фактах нашей общей истории, которые меня, например, привели в задумчивость.
Вот автор рассуждает об исторической политике, которая зачастую подменяет собой госпожу Историю: «В последние времена меня особенно печалит тенденция к однобокому освещению нашей истории. Об этом предмете следует говорить всерьёз. Не с целью использования исторических фактов для решения сиюминутных политических задач, а во благо всего народа». И продолжает тему: «Мы порой живём так, что сами себя не помним: не только забываем плохое и хорошее, но и рисуем в своём сознании совершенно другую реальность прошлого. Сами её создаем и сами же начинаем верить. Давайте помнить прошлое таким, каким оно было в действительности, а не молиться на «лжеиконы». Это лишает народ и веры, и морали. Ещё раз: я не красный, не белый, не синий, не зелёный. Я – против войны, особенно войны гражданской, войны, которая вызывает ненависть, учит убивать и мстить, коверкает души и ломает судьбы…» (с. 238).
Поразительный пример
Буров говорит об «информационном разминировании исторического пространства», которым занимаются молодые исследователи-архивисты, и приводит, в частности, свидетельства о грабежах церковных ценностей войсками генерала Мамонтова летом 1919 года в районе Воронежа, о которых не принято нынче говорить. Современник тех событий – адмирал Деникин – так прокомментировал результаты «героического» рейда: «Громадную ценную добычу привёз он (Мамонтов. – Д.К.). Чего в ней только не было – тысячи золотых и серебряных вещей, иконы в золотых окладах, церковные сосуды, жемчуга и бриллианты…» Награбленное переправили в Турцию, где прибывшие из Северо-Американских Штатов «антиквары», боясь скандала и огласки, потребовали превратить ценности в лом, что и было сделано офицерской молодёжью численностью 40 человек за два месяца. Итог – 700 ящиков общим весом 160 тонн.
«От американцев было получено 50 млн франков. Деньги переданы лично Врангелю».
Об этом не прочитаешь в газете или в школьном учебнике, не услышишь по телевизору, ибо лидерам Белого движения уже возведены памятники и посвящены романтические кинокартины, словно они – наше всё, они, дескать, были за веру, царя и Отечество! На наших глазах происходит поворот на сто восемьдесят градусов. Бедные школьники и студенты! Бедные пенсионеры, сдававшие учителям «другую» историю Гражданской войны в России.
Неспешные пояснения
В книге много вдумчивых неспешных пояснений к недавним событиям. Вот, например, о шуме вокруг прав на Исаакиевский собор, случившемся в начале нынешнего века. Казалось бы, о чём спорить? Богу – Богово, кесарю – кесарево. Отдать собор церкви – и дело с концом! Ан нет! Буров, который был в те непростые годы директором Исаакия (на его попечении находились также Смольный и Сампсониевский соборы и храм Спас на Крови), терпеливо и убедительно рассказывает, почему он, православный и воцерковлённый человек, противился передаче этого сложного историко-художественного объекта в управление церкви. Во-первых, Исаакий никогда не находился на балансе церкви и всегда содержался за счёт казны. Во-вторых, самый большой православный храм в Европе, который Монферран строил сорок лет, – явление уникальное и смотреть за ним – целая наука: архитектурный и художественный контроль, реконструкция колоколов, башенок, строгий температурный режим, освещённость, сохранность редчайших фресок и картин, просторные подвалы с редчайшими экспонатами, включая блокадные…
Буров пишет о неудачной попытке содержать Исаакиевский собор за счёт церковной общины, предпринятой почти сто лет назад: «Уже после осмотра здания, который был выполнен в мае 1925 года, стало понятно, что «ремонт и поддержание таких художественно-исторических архитектурных памятников мирового значения, как Исаакиевский или Смольный соборы, посильны только государству». Сейчас в Исаакиевском, слава Богу, совмещены церковные службы и экскурсионное дело – собор остался под присмотром государства.
Образ города
В книге, как в хорошем путеводителе, отчётливо проступает образ Ленинграда – Санкт-Петербурга. Город – не декорации, а действующее лицо книги. Автор с любовью и дотошностью рассказывает об улице Полярников и окрестных местах – там под перекличку паровозных гудков прошло его детство и юность, оттуда он ездил в центр Ленинграда учиться актёрскому мастерству. Очень деликатно и строго рассказано о родителях, братьях и сёстрах, о традициях большой ленинградской семьи. Фигура отца, с ранней молодости строившего в нашей стране новую жизнь, появляется в книге не часто, но, я бы сказал, значительно, в этих появлениях угадывается огромное сыновье уважение к родителю.
Николай Буров, которому довелось и играть на сцене наших лучших театров, и сниматься в кино, и быть министром культуры городского правительства, и возглавлять в тяжёлые времена Союз театральных деятелей Санкт-Петербурга, и создавать новый Музей железнодорожного транспорта на Балтийском вокзале (про Исаакий мы уже говорили), проступает сквозь страницы своей книги человеком добрым и общительным, каким и является в жизни. Трогает высказывание автора: «Моя жизнь была не особенно заметной: я не закрывал грудью амбразуры, не совершал героических поступков и не спасал людей, но каждый день делал дело, которое мне было поручено свыше. Если удавалось хорошо – получал удовольствие. Если что-то не получалось – начинал болеть».
Раскрою маленький секрет: книга Николая Бурова выпущена в свет очень небольшим подарочным тиражом без обязательных в издательском деле выходных данных, что нисколько не умаляет её значения, а напротив – делает её уникальной. При этом остаётся надежда, что тираж будет повторён и расширен – и славная книга обретёт формальные признаки явления культуры. Неформальные признаки в ней налицо.