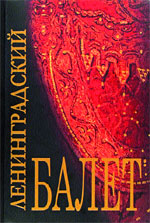 Ленинградский балет 1960–1970-х годов. – Санкт-Петербург: Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Российский институт истории искусств, 2008. – 224 с.: ил.
Ленинградский балет 1960–1970-х годов. – Санкт-Петербург: Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Российский институт истории искусств, 2008. – 224 с.: ил.
Балет – в той же степени «королевское искусство», в которой алхимия – «королевская наука». Чему нужно просто верить, ибо доказать это современному человеку, считающему алхимию не более чем «лжеучением», нелегко.
Однако «нелегко» не значит «невозможно».
«Картинка» ленинградского балета 60– 70-х гг. ХХ века рассмотрена авторами сборника с разных сторон. Теоретическая работа Ларисы Абызовой, посвящённая хореографическому симфонизму, пытается выявить задачи, поставленные временем перед балетом. Статья Марины Ильичёвой определяет место хореографов в данной ситуации. Текст Марии Фоминой предлагает нам балет в образе синтетического спектакля и показывает, как художники-декораторы справлялись с требованиями танцевально-зрелищной конъюнктуры. И, наконец, заметки Аркадия Соколова-Каминского повествуют о тех, кто не дал умереть балету в качестве именно «королевского искусства» – танцовщиках.
Каждая работа по-своему интересна, но только все вместе они дают представление читателю о том непростом времени в советском сценическом танце, которое было посвящено нешуточным битвам между «драмбалетом» и «танцсимфонизмом».
Оба направления берут начало в революции. Оба через полвека скатились к мелкобуржуазности. Демократический посыл «хореодрамы» уютно разместился в мягком ложе метода Станиславского, изгнав из балета в угоду пантомиме почти всякую танцевальность кроме иллюстративной. Изначально футуристический и программно-«технологичный» танцевальный симфонизм пошёл по пути предельной формализации своего рисунка, который просто обязан был следовать каждому повороту в развитии музыкальных тем, украшенных побочными мелодическими линиями. Оба направления постарались избавиться в танце как от народной стихии, касающейся самых архаичных пластов универсального символизма, так и от аристократической составляющей, удалившей из танца все признаки «неблагородных металлов», превратившей академическую хореографию в средство алхимической трансмутации не только тела танцующего, но и духа зрителя.
Авторы показывают, как на «вызовы времени» реагировал тот или иной художник, творивший в заданный период в Ленинграде. Причиной поисков исследователи почти единогласно провозглашают оттепель, подарившую творцу, по их мнению, подлинную свободу. Что, правда, кажется не очень верным. Да, «драмбалет» не отвечал уже ни времени, ни природе танца. Но «неоконструктивизму» и графической образной обобщённости в эстетике 60-х танец не отвечал вообще никакой! Разве что популярный в 20-е гг. «танец машин», который балетом в строгом смысле, конечно же, не был.
Итак, «физкультурные парады» не удовлетворяли массового театрала, а «бытовая пантомима» сковывала склонную к абстрактному мышлению интеллигенцию. Поиск шёл напряжённый. Беда заключалась в том, что ответ на запрос эпохи не рождался из метафизики танца, а звучал адаптированным к ситуации повтором «речи, произнесённой по другому поводу». И если изобразительное искусство в отрыве от фигуративности опиралось на собственные корни обобщающей орнаментальности народного узора, то танец искал себя уже в чисто художественном абстрактном импрессионизме. Что, конечно, не могло не сказаться на качестве продукта.
Зритель по-прежнему хотел смотреть, как танцуют красивые девушки, тогда как хореографы предлагали «танцующих девушек» далеко не всегда.
Но, как отметил Соколов-Каминский, именно танцовщики, воспитанные на традиционном экзерсисе, и сохранили балет, когда идеи балетмейстерских реформ оказались исчерпанными. Сам танец воспротивился непродуктивности внетанцевальных поисков, вернувшись к народно-аристократическому «непустому развлечению». Ведь ещё Перро–Коралли–Петипа блестяще доказали, что «симфонизм» вполне разрешаем в рамках классики («Жизель»), а Лев Иванов дал понять, как можно отвечать на самые универсальные и драматичные вопросы бытия в той же системе («Щелкунчик»).
