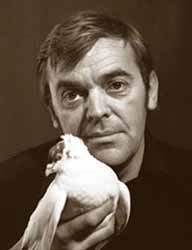
Один из друзей Коваля вспоминал, как состоялось его первое, ещё заочное знакомство с писателем: в электричке, что шла от Звенигорода, весной 1979 г. приятель-биолог открыл детскую книгу неизвестного автора про какого-то недопёска. Не Маркеса, не Борхеса, не модных тогда мистических реалистов… И всё: человек пропал – до Малых Вязём он уже был «пронзён этой прозой».
Пронзительная и проникновенная, проза эта не оставляла равнодушных: необыкновенный герой, сюжет, чудесное владение словом… Каждое слово Коваля – как почка на ветке: туманной ранней весной набухают на тонких веточках, собираются капельки вокруг них – и если попробовать на вкус, то чувствуются в каждой капле необыкновенная свежесть, привкус соков, что питают почки, поднимаются из-под земли, идут из почвы по капиллярам… Душа писателя подобна весеннему дереву – питается она соками почвы, как младенец – материнским молоком, и раскрываются слова-почки, расцветают листики фраз.
Проза Юрия Коваля необыкновенна, а источники её самые что ни на есть человеческие, простые – это и рассказы матери («Полынные сказки»), и байки отца, что был начальником областного угрозыска в Подмосковье («Приключения Васи Куролесова»), и главное, конечно, собственные ощущения, что родились из огромного и уникального опыта учителя, путешественника, охотника, художника, музыканта… Кем только не побывал Юрий Коваль, с каким материалом не был знаком: он вырезал иконы из дерева, работал с керамикой и эмалью, писал портреты и сценарии, снимался в кино. Недаром же Юрий Ряшенцев назвал его «человеком эпохи Возрождения». Однако, вглядываясь в творческую биографию Коваля, можно увидеть скорее связь с традицией русского универсализма, которая восходит к универсальности крестьянского хозяйства на Руси и находит своё выражение в феномене Ломоносова. Отсюда уже, с Русского Севера, от поморов с их мореходами, через Степана Писахова и Бориса Шергина идёт прямая дорожка к Ковалю: он дружил с Шергиным до последних дней его жизни, бредил морем и о путешествии на Север написал чудесную книгу «Самая лёгкая лодка в мире». Есть связь Юрия Коваля и с Борисом Житковым, Михаилом Пришвиным, Иваном Соколовым-Микитовым и Арсением Тарковским (с последними двумя наш автор находился в дружеских отношениях).
В одном из интервью Коваль сказал: «Я пишу так, будто пишу для маленького Пушкина». Это парафраз известного гоголевского высказывания: «Когда я творил, я видел перед собой только Пушкина». Ещё Гоголь говорил, что Пушкин – это русский человек в развитии, «в каком он, может быть, явится через двести лет». Время это уже приходит, но пока ещё не всякий ребёнок у нас может стать Пушкиным, не всякий взрослый носит Пушкина в своей душе. Коваль – не для всех: есть и маленькие дети, и взрослые критики, которые никак не могут его понять и принять. Так было в советское время, то же и сейчас: не все видят чистоту его языка, кому-то мнится в этом, по сути, авангарде детской литературы тон излишнего самолюбования. Однако же черта самохвальства тоже вполне присуща богато одарённым, артистическим личностям – вспомним того же Ломоносова…
Два мира соединялось в его прозе: московская богема, мир художественных мастерских и интеллигентских посиделок и мир Русского Севера, о котором Коваль так красочно писал, куда он старался убежать при первой же возможности из «душной Москвы». Далеко не каждый человек готов к такому соединению миров: обычно у нас принято видеть и описывать их по отдельности: городская проза (Юрий Трифонов) – это одно, деревенщики (Фёдор Абрамов, Валентин Распутин) – другое. Юрий Коваль соединял, казалось, несоединимое. Заметим, что сейчас примерно те же художественные задачи решают Александр Дорофеев и Ксения Драгунская. Это не последователи Коваля в смысле сходства приёмов, да и трудно себе представить, как можно воспроизвести его уникальный способ письма, скорее, здесь близость мировоззренческая…
Есть ещё два мира, которые соединяет в себе проза Коваля, – это миры взрослых и детей. Действительно, его любят взрослые читатели, имеющие вкус к художественному слову. Рассказы и повести Юрия Коваля походят на многослойный пирог, в котором каждый найдёт себе любимый вкус. Многие взрослые готовы перечитывать его вновь и вновь, и феномен этот требует особого рассмотрения: вслед за Ковалём у нас образовалась целая плеяда детских писателей, которая создаёт такую, «многослойную» литературу: во-первых, это ученики, члены семинара, который он вёл несколько лет при журнале «Мурзилка», во-вторых, члены клуба детских писателей «Чёрная курица»: Марина Бородицкая, Олег Кургузов, Борис Минаев, Марина Москвина, Сергей Седов, Александр Торопцев, Лев Яковлев. Книги этих писателей стали выходить в последнее время в сериях «Для взрослых и детей» и «Для тех, кому за 10», но тема соединения мира взрослых и детей заслуживает отдельного разговора…
Мне тоже довелось быть знакомым с Юрием Ковалём, он читал мои первые рассказы, расспрашивал, знаю ли я Бориса Шергина. Тогда я мало читал и прозу самого Коваля, но помню великий пиетет, с которым относились к нему младшие коллеги, и очень доброе, щедрое отношение его к молодёжи: он приглашал членов семинара в свою мастерскую, дарил картины. Памятником тех лет стала «Ковалиная книга», которую собрали его друзья и коллеги, в уникальном этом издании опубликованы воспоминания и статьи нескольких десятков писателей, здесь же можно найти замечательные интервью. Много для книги сделала Ирина Скуридина, которая на протяжении нескольких лет была литературным секретарём писателя.
Книга эта полна интереснейших мыслей и наблюдений, которые касаются не только Коваля, но и вообще русской прозы. Вот что писал Андрей Битов: «Юрий Коваль – чистая литература, прозаик на всём протяжении. В слово «прозаик» я вкладываю особый смысл. Это человек, чувствующий слово не меньше, чем поэт, но в прозе. Я вообще считаю, что русская литература непрофессиональна по традиции. Она любительская. Быть любителем, высоким любителем, так чтобы выдавать образцы, а не продукцию, – вот это и есть традиция русской литературы. Поэтому, хотя Коваль и считался детским писателем, он был прозаиком прежде всего, и для него больше всего значило слово. Книги у Юры все разные; менять, даже изобретать жанр в каждой новой книге я считаю правильным… Сейчас, когда появился рынок, появились и профессия, и производство. Сакрального смысла русское слово уже не несёт или может потерять и перестать нести, а Коваль в этом смысле был служителем русской речи…»
То, что пишет Битов, может показаться кому-то спорным – но такова уж суть прозы Юрия Коваля, что разговоры о ней выводят на вопросы трансцендентные – о сакральном и профанном, об авангарде и имитации, о новой системе образности. И сейчас, читая Коваля, я ловлю себя на мысли о сходствах его отдельных идей с выдумками Виктора Пелевина, с художественными акциями в деревне Николо-Ленивец, с самым широким кругом явлений культурной жизни России и Европы: это и немудрено, ведь его книги успели прочитать сотни тысяч творческих людей, одарённых детей, которые создают отечественную культуру: те самые «будущие Пушкины»…
Пронзительная и проникновенная, проза эта не оставляла равнодушных: необыкновенный герой, сюжет, чудесное владение словом… Каждое слово Коваля – как почка на ветке: туманной ранней весной набухают на тонких веточках, собираются капельки вокруг них – и если попробовать на вкус, то чувствуются в каждой капле необыкновенная свежесть, привкус соков, что питают почки, поднимаются из-под земли, идут из почвы по капиллярам… Душа писателя подобна весеннему дереву – питается она соками почвы, как младенец – материнским молоком, и раскрываются слова-почки, расцветают листики фраз.
Проза Юрия Коваля необыкновенна, а источники её самые что ни на есть человеческие, простые – это и рассказы матери («Полынные сказки»), и байки отца, что был начальником областного угрозыска в Подмосковье («Приключения Васи Куролесова»), и главное, конечно, собственные ощущения, что родились из огромного и уникального опыта учителя, путешественника, охотника, художника, музыканта… Кем только не побывал Юрий Коваль, с каким материалом не был знаком: он вырезал иконы из дерева, работал с керамикой и эмалью, писал портреты и сценарии, снимался в кино. Недаром же Юрий Ряшенцев назвал его «человеком эпохи Возрождения». Однако, вглядываясь в творческую биографию Коваля, можно увидеть скорее связь с традицией русского универсализма, которая восходит к универсальности крестьянского хозяйства на Руси и находит своё выражение в феномене Ломоносова. Отсюда уже, с Русского Севера, от поморов с их мореходами, через Степана Писахова и Бориса Шергина идёт прямая дорожка к Ковалю: он дружил с Шергиным до последних дней его жизни, бредил морем и о путешествии на Север написал чудесную книгу «Самая лёгкая лодка в мире». Есть связь Юрия Коваля и с Борисом Житковым, Михаилом Пришвиным, Иваном Соколовым-Микитовым и Арсением Тарковским (с последними двумя наш автор находился в дружеских отношениях).
В одном из интервью Коваль сказал: «Я пишу так, будто пишу для маленького Пушкина». Это парафраз известного гоголевского высказывания: «Когда я творил, я видел перед собой только Пушкина». Ещё Гоголь говорил, что Пушкин – это русский человек в развитии, «в каком он, может быть, явится через двести лет». Время это уже приходит, но пока ещё не всякий ребёнок у нас может стать Пушкиным, не всякий взрослый носит Пушкина в своей душе. Коваль – не для всех: есть и маленькие дети, и взрослые критики, которые никак не могут его понять и принять. Так было в советское время, то же и сейчас: не все видят чистоту его языка, кому-то мнится в этом, по сути, авангарде детской литературы тон излишнего самолюбования. Однако же черта самохвальства тоже вполне присуща богато одарённым, артистическим личностям – вспомним того же Ломоносова…
Два мира соединялось в его прозе: московская богема, мир художественных мастерских и интеллигентских посиделок и мир Русского Севера, о котором Коваль так красочно писал, куда он старался убежать при первой же возможности из «душной Москвы». Далеко не каждый человек готов к такому соединению миров: обычно у нас принято видеть и описывать их по отдельности: городская проза (Юрий Трифонов) – это одно, деревенщики (Фёдор Абрамов, Валентин Распутин) – другое. Юрий Коваль соединял, казалось, несоединимое. Заметим, что сейчас примерно те же художественные задачи решают Александр Дорофеев и Ксения Драгунская. Это не последователи Коваля в смысле сходства приёмов, да и трудно себе представить, как можно воспроизвести его уникальный способ письма, скорее, здесь близость мировоззренческая…
Есть ещё два мира, которые соединяет в себе проза Коваля, – это миры взрослых и детей. Действительно, его любят взрослые читатели, имеющие вкус к художественному слову. Рассказы и повести Юрия Коваля походят на многослойный пирог, в котором каждый найдёт себе любимый вкус. Многие взрослые готовы перечитывать его вновь и вновь, и феномен этот требует особого рассмотрения: вслед за Ковалём у нас образовалась целая плеяда детских писателей, которая создаёт такую, «многослойную» литературу: во-первых, это ученики, члены семинара, который он вёл несколько лет при журнале «Мурзилка», во-вторых, члены клуба детских писателей «Чёрная курица»: Марина Бородицкая, Олег Кургузов, Борис Минаев, Марина Москвина, Сергей Седов, Александр Торопцев, Лев Яковлев. Книги этих писателей стали выходить в последнее время в сериях «Для взрослых и детей» и «Для тех, кому за 10», но тема соединения мира взрослых и детей заслуживает отдельного разговора…
Мне тоже довелось быть знакомым с Юрием Ковалём, он читал мои первые рассказы, расспрашивал, знаю ли я Бориса Шергина. Тогда я мало читал и прозу самого Коваля, но помню великий пиетет, с которым относились к нему младшие коллеги, и очень доброе, щедрое отношение его к молодёжи: он приглашал членов семинара в свою мастерскую, дарил картины. Памятником тех лет стала «Ковалиная книга», которую собрали его друзья и коллеги, в уникальном этом издании опубликованы воспоминания и статьи нескольких десятков писателей, здесь же можно найти замечательные интервью. Много для книги сделала Ирина Скуридина, которая на протяжении нескольких лет была литературным секретарём писателя.
Книга эта полна интереснейших мыслей и наблюдений, которые касаются не только Коваля, но и вообще русской прозы. Вот что писал Андрей Битов: «Юрий Коваль – чистая литература, прозаик на всём протяжении. В слово «прозаик» я вкладываю особый смысл. Это человек, чувствующий слово не меньше, чем поэт, но в прозе. Я вообще считаю, что русская литература непрофессиональна по традиции. Она любительская. Быть любителем, высоким любителем, так чтобы выдавать образцы, а не продукцию, – вот это и есть традиция русской литературы. Поэтому, хотя Коваль и считался детским писателем, он был прозаиком прежде всего, и для него больше всего значило слово. Книги у Юры все разные; менять, даже изобретать жанр в каждой новой книге я считаю правильным… Сейчас, когда появился рынок, появились и профессия, и производство. Сакрального смысла русское слово уже не несёт или может потерять и перестать нести, а Коваль в этом смысле был служителем русской речи…»
То, что пишет Битов, может показаться кому-то спорным – но такова уж суть прозы Юрия Коваля, что разговоры о ней выводят на вопросы трансцендентные – о сакральном и профанном, об авангарде и имитации, о новой системе образности. И сейчас, читая Коваля, я ловлю себя на мысли о сходствах его отдельных идей с выдумками Виктора Пелевина, с художественными акциями в деревне Николо-Ленивец, с самым широким кругом явлений культурной жизни России и Европы: это и немудрено, ведь его книги успели прочитать сотни тысяч творческих людей, одарённых детей, которые создают отечественную культуру: те самые «будущие Пушкины»…

