Журнал «Звезда» провёл торжественно-камерный вечер в честь своего 100-летия. Среди гостей были и Эдуард Кочергин, и Александр Кушнер, и Михаил Пиотровский, и другие литературоцентричные жители Земли.
И, конечно, это замечательный повод поговорить с историком литературы и главным редактором журнала Андреем Арьевым.
– Андрей Юрьевич, поздравляю вас и вашего соредактора Якова Гордина со 100-летним юбилеем журнала «Звезда». По-моему, тут подходит строка Бродского: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной». Из всех толстых журналов у «Звезды» самая долгая жизнь. Журнал был и ленинградским, и петроградским, и петербургским… Непросто, наверное, быть источником света на протяжении 100 лет?
– Конечно, непросто. Я так вопрошал себя: умру ли до столетия журнала или журнал раньше скончается? В результате живы оказались оба. Может быть, и ещё что-то удастся сделать. А у Иосифа есть и такая строчка: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Он всё знал, жизнь его рано оборвалась, но действительно оказалась длинной.
– Бесконечная жизнь поэта.
– Да. Вообще, представление о времени зависит от внутреннего состояния человека, общества, мира. Иногда оно долго длится, недаром существует понятие «застой». «Звезда» родилась в очень быстрое время – после революции, когда новая власть пыталась создать новые формы искусства. Были для этого основания – авангардная литература всегда революционно настроена. Футуристы, например. Но именно в них власть быстро разочаровалась. Стабильности они не содействовали.
Хотя в первые годы революции художникам было свободно и легко, авангард расцветал. Но очень скоро авангардную культуру власть постаралась от себя отсечь. Остался у неё один Маяковский, несчастный человек, застрелившийся в конце концов от того, что «ни души не шагает рядом». В «Звезду» он был ни ногой, потому что считалось, что «Звезда» – это журнал попутчиков, то есть тех, кто вроде бы не против власти, но и не на её стороне.
Мечта о новой сугубо пролетарской культуре тоже оказалась несбыточной. Тогда явилась идея выпестовать новых «красных Гоголей» и «красных Щедриных».
Большевики понимали, что без культуры невозможно. С одной стороны, им нужна была пропаганда, но одновременно они представляли, что являются наследниками великой культуры, которую никуда не денешь, она подолговечней любой власти. Ленин был образованным человеком, хоть и демагогом.
– В частности, его последняя прижизненная работа опубликована была именно в «Звезде».
– Верно. В общем, большевики решили возобновить культуру толстых журналов досоветских времён. Кстати, в XIX веке в России люди ориентировались и группировались как раз вокруг журналов. Демократически настроенные ориентировались на «Современник», другие – на «Вестник Европы», третьи – на «Русское богатство» и так далее. Через толстые журналы прошла вся русская литература: Толстой, Достоевский печатались сначала в журналах.
В 1924 году родился журнал «Звезда», и не случайно, что главный редактор Иван Майский в первом же номере напечатал то, что нужно было для большевиков: статью Ленина. К тому моменту тот был уже почти при смерти, и напомнить о его существовании было необходимо.
Рядом были опубликованы и Горький, и только что вернувшийся из эмиграции Алексей Толстой, и недавно уехавший за границу Владислав Ходасевич. В «Звезде» публиковались в большей степени ленинградцы – Зощенко, Каверин, Слонимский, Тихонов, Тынянов, Заболоцкий, Ахматова, но и Мандельштам, и Пастернак и другие.
Критика в журнале была такая сурово-правоверная, большевистская. Проза и поэзия были посвободнее. Например, была напечатана поэма Николая Клюева «Деревня», после которой вообще весь этот номер журнала был пущен под нож.
А в начале 30-х годов, когда у Сталина появилось достаточно власти, вольница прекратилась.
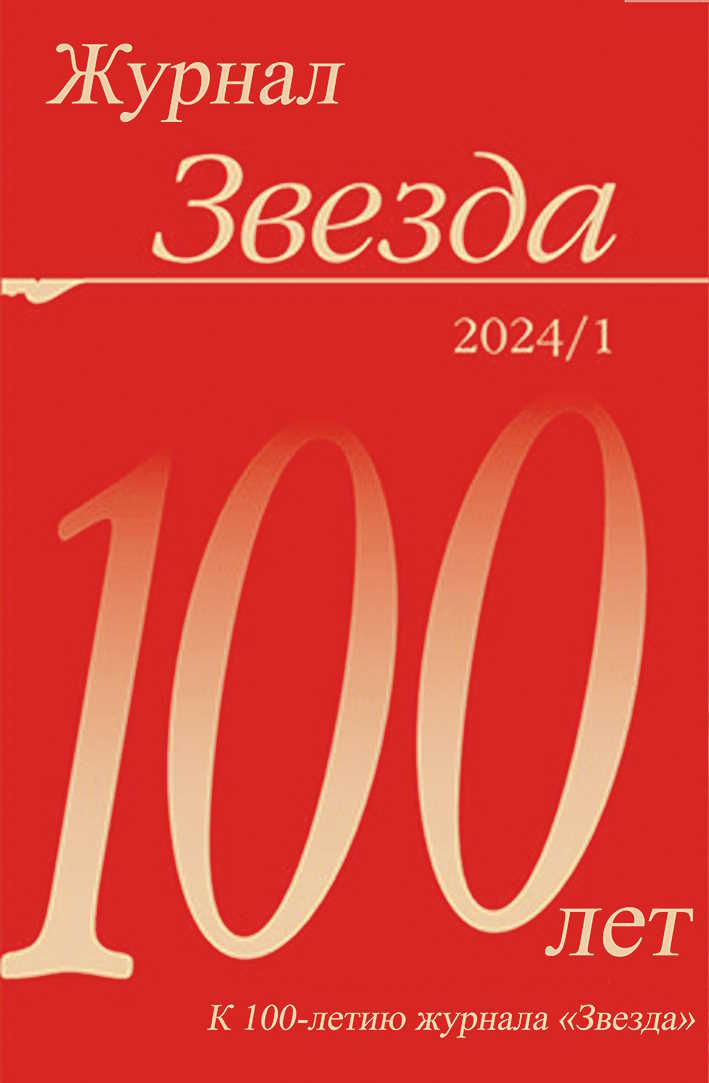
– И у авторов, и у редакторов журнала были непростые судьбы. Три редактора были расстреляны… На сайте «Звезды» написано, что Сталин «был очень внимателен к слову».
– Большевики – материалисты, но в слово верили, как самые настоящие идеалисты. Они думали, что при помощи слова можно сделать всё. И были отчасти правы. Многое из того, что они говорили на протяжении долгих лет, вошло в сознание массы людей. Люди думали так: «Живём плохо, ну ведь ради чего живём? Вот-вот и будет коммунизм».
– Этой романтической мечтой они многих вдохновили. Недавно переводчики из Турции и Испании рассказали мне, что любят Россию и до сих пор мечтают о коммунизме.
– Да, большевики не только Россию соблазнили, но и довольно важную интеллектуальную элиту Запада. Даже Сартр, такой тончайший философ, экзистенциалист, а и тот стал исповедовать сталинскую идеологию.
– Значит, у нас правил коммунизм и литературоцентризм?
– Россия – страна литературоцентричная. Непонятно, что бы с нами было без литературы. Общее цивилизующее поле в любой стране – это язык и культура.
– Люблю письмо Бродского к Брежневу, где он пишет: «Я принадлежу русскому языку» и «переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом».
– Многие, правда, смеялись: «Ну кому он пишет?! Брежневу?! Будет он читать его сочинения, тем более какие-то письма!.. Кто он такой?! Тунеядец!..» А вот он принципиально это сделал.
– А Брежнев прочёл?
– Думаю, нет. Наверное, кто-то в ЦК прочитал. Там многое решалось, и главные редакторы всех толстых журналов утверждались там. Хотя однажды «Звезде» повезло: это был первый журнал в СССР, в котором главный редактор был выбран на общем собрании Союза писателей. Его звали Геннадий Философович Николаев. 1989 год. Цензура ещё существовала, но первая наша удача с Геннадием Философовичем заключалась в том, что удалось выпустить номер, целиком посвящённый столетию Ахматовой. Это было важно – именно Ахматова и Зощенко были в первую очередь обруганы в постановлении 46-го года.
– Их перестали печатать. Но, слава богу, они оба писали. И Ахматова была всё-таки в своей знаменитой «будке».
– Ахматова более-менее на переводах ещё могла жить. Зощенко – нет. Когда иностранные студенты сдуру спросили его: «Как вы относитесь к этому постановлению?» – он ответил, что оно несправедливо. Ахматова – мудрый человек – сказала: «Я постановлений своего правительства не обсуждаю». Так что ей потом было немножко полегче.
– Знаете, летом в Петербург приезжал итальянский писатель Паоло Нори. Автор книг о Достоевском, Ахматовой. И его, в частности, волнует такой вопрос: «Есть ли сегодня новая Ахматова или Бродский?» Мне кажется, нет. Потому что они единственны и они могли быть только в том времени. Но, может быть, он имел в виду другое…
– Есть ли сейчас просто талантливые люди?
– Думаю, речь про масштаб личности. Ахматовой не разрешали печататься, Бродский уехал не по собственной воле. А сейчас… каждый может сказать и написать всё что хочет. И уехать куда пожелает. Свобода есть, а масштаба нет. Почему?
– Дело в том, что отчасти всё-таки каждая творческая личность куётся в условиях несвободы. Это естественно. Вы помните, Зощенко говорил: «От хорошей жизни писателями не становятся». Не знаю, как к поэтам, а к прозаикам это имеет отношение.
– Счастливый поэт тоже редкость.
– Они по своей натуре такие люди, что не могут быть счастливы, еретики.
– Александр Кушнер – исключение.
– Всегда будут исключения. Александр Кушнер – замечательный поэт, его стихи открывают наш юбилейный номер. Конечно, мы все хотим от литературы гигантов – не одного, много... Но сейчас очень нелитературное время. И во многом из-за того, что место, которое занимала серьёзная культура, постепенно занимает культура балаганная, скажем так. То есть культура, которая не имеет под собой старинной почвы. Возник какой-то культ своеволия – полный. А культура – это всё-таки отбор. Сегодня действительно каждый может пойти в типографию и напечатать что угодно. Я бы не назвал время некультурным, это время противокультурное, вот в чём беда.
Культурных людей остаётся достаточное количество, но они не нужны. Культуру заменяют ширпотребом, который дёшево и быстро делается. И столь же быстро забывается. В результате преуспевают не те люди, которые, скажем, 10 лет пишут роман, а другие, которые половчей.
– Мы сейчас ругаем капитализм?
– При чём тут капитализм? Откуда тогда появился Фолкнер? Те же Сартр, Хемингуэй, Сэлинджер? Все они выросли при капитализме. Кстати, у нас никакого капитализма ещё и не было. Дело в общем противокультурном так называемом тренде, который охватил весь земной шар.
– Кстати, очень неприятное слово «тренд».
– Да, ругали вот космополитов за преклонение перед Западом, а что сейчас делается? Не хуже ли? Любое слово пытаются заменить английским. Ну так же нельзя. На чужом языке ничего не создашь – ни культуру, ни государство.
– А как вы думаете, скоро ли исчезнут все эти «позитивы», «креативы», «инсайты»?
– Вот у меня есть словарь русского языка XVIII века: поражает то, что чуть ли не половина слов в нём голландско-немецкие! Но все они куда-то исчезли со временем.
Слова, языку подходящие, они останутся, приживутся, изменившись согласно строю русской речи.
– Снобы часто поправляют: мол, надо говорить не «Фицджеральд», а «Фицджеральд».
– Теперь и «Флорида» начали говорить… Они не понимают, что у русского языка своя грамматика и интонация, наконец, своя традиция. Будем говорить по-русски.
– Андрей Юрьевич, а как получилось, что в «Звезде» два главных редактора?

– Когда Геннадий Философович пригласил в редколлегию меня, Якова Гордина и других, он сказал так: «Ну, ребята, всё, мне будет 60 лет, я выйду на пенсию и наконец-то вздохну свободно и буду писать». 60 лет ему исполнилось, но в этот момент оказалось, что за книги уже ничего не платят. Надежда на спокойную обеспеченную жизнь рухнула. И он с женой уехал в Германию. Но мы переписываемся.
Так мы остались без главного редактора. В то время журнал перешёл уже полностью в руки редакции, под нашу ответственность. И наши коллеги решили проголосовать за нас двоих. 1992 год. Цензуры уже не было, мы печатали и Солженицына, и Бродского, и Довлатова.
– А как другие ваши сотрудники пришли в журнал?
– Кроме нас самый давний работник редакции – Алексей Пурин, заведующий отделом поэзии и критики. Он не авангардист, хотя пишет стихи, не похожие ни на что, как и положено настоящему поэту, у него свой голос.
– В юбилейном номере опубликовано стихотворение Алексея Арнольдовича «Памяти Ленинграда». Прочла и живу теперь с этой мелодией.
– Да, замечательное стихотворение. Каждому человеку есть о чём вздохнуть и о чём вспомнить. А завотделом публицистики у нас недавно стал Борис Лихтенфельд, он из числа петербургских поэтов, которые уходили в котельные, это особая каста. Прекрасный поэт. Сейчас котельные закрыли, и мы его взяли на работу. Вообще с поэтами у нас хорошо: среди наших сотрудников есть и Александр Леонтьев, и его стихи – в юбилейном номере. Завотделом прозы тоже новый человек – Татьяна Ломакина, она работала в издательстве «Наука», мы быстро нашли общий язык, она профессионал. И ответственный секретарь журнала у нас профессионал, Ольга Комарова.
– И драгоценный корректор Наталья Нестерова. И завредакцией Галина Кондратенко – украшение и душа журнала.
– У нас целая галерея замечательных людей. Кстати, до Галины Леонидовны была Антонина Розен, а ещё раньше была Софья Хенкина, которая всю войну прошла. С папиросой всегда сидела. И Наталья Владимировна – превосходный корректор, в сущности – редактор. Тоже нам повезло. Каждый – личность. Например, Вера Рогушина – на ней вся экономическая работа журнала держится. Или бухгалтер Наташа Кирюшина – не представляю себе, как она справляется с бесконечным и бессмысленным потоком всяческих новых инструкций. А справляется – и со спокойным видом. Или верстальщик Валентин Бердник – суперпрофессионал.

– Моховая, 20, редакция журнала «Звезда», дом, когда-то принадлежавший князьям Оболенским. Как вы ощущаете себя в этом пространстве, в этих роскошных интерьерах?
– Пока пространство есть, ощущаем себя хорошо. Да, сохранились залы, которые, правда, нужно бы подлатать. Кстати, именно здесь была первая выставка Михаила Шемякина в СССР. Множество было выставок. Сегодня вы видите здесь картины Хачатура Белого. И, конечно, наша постоянная фотовыставка, открытая ещё в день рождения Володи Уфлянда, – до сих пор висит: фотографии поэтов и писателей той поры, с которыми мы вместе литературно выросли.
– Андрей Юрьевич, многие считают, что критика умерла, кто её убил?
– Думаю, она всё-таки жива. Критика – это возможность диалога с писателем. Но сам я давно перестал критические статьи писать. Я в большей степени филолог, историк литературы. Вот сейчас должна выйти ещё одна моя книга о Георгии Иванове.
– А почему вы выбрали именно этого поэта?
– Отчасти из-за того, что его стихи превратно понимали. Он очень поздно вошёл в наш литературный окоём, считался антисоветским писателем, был эмигрантом. Но самое главное: против него ополчилась, скажем так, элитарная часть общества во главе с Анной Ахматовой. Она его ненавидела и оставила о нём очень плохие отзывы в своих записных книжках. Против Анны Андреевны ни один культурный человек не решался выступить. И ей многие вторили. Но я прочитал Георгия Иванова, и мне захотелось думать о его жизни, писать о его поэзии.
– А какая у вас любимая книга?
– По-моему, лучший роман, написанный на русском языке, – это «Мёртвые души». Но в то же время думаю, что Гоголь как человек один из самых недобрых в мире.
Но Гоголь гений, смог из своего тёмного нутра вытащить то лучшее, что было заложено в нём, – способность творить. Помните, у Мандельштама: «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам…» Нечто подобное и делает человека гением, а не просто талантом. Как не вспомнить и персонажа из набоковского «Дара» «со слишком добрыми для литературы глазами»… Георгий Иванов, кстати, в смысле нравственности тоже был «хорош».
Гоголь собственные несовершенства завуалировал под чужие, блестяще выдуманные образы. Чужая оболочка, но внутри сидит Гоголь. Цитирую по памяти: врать ему не хотелось, но тут сами собой представились такие подробности, что не соврать было невозможно. Это о Ноздрёве? Нет, это о Гоголе.
– Но Гоголь ведь столько страдал…
– Да, он был страдальцем, и тут, что называется, шляпу долой. Страдание всякого человека может спасти. Гоголя не спасло.
– А кто ваш любимый поэт?
– В детстве первый поэт, которого чтил без ума, – это Лермонтов.
– Вот он точно был человек недобрый…
– Да, но оттого и писал здорово.
– А кто вас радует в новом поколении литераторов?
– Буквально в последние годы появилась Варя Заборцева, и она радует. И совсем недавно на Форуме молодых писателей я заметил такого прозаика, как Павел Суслов, он стал нашим лауреатом за свой дебютный роман. И вы, Арина, совсем не случайно представлены в нашем юбилейном номере. «Звезда» не погасла. Будем надеяться, ещё посветит...


