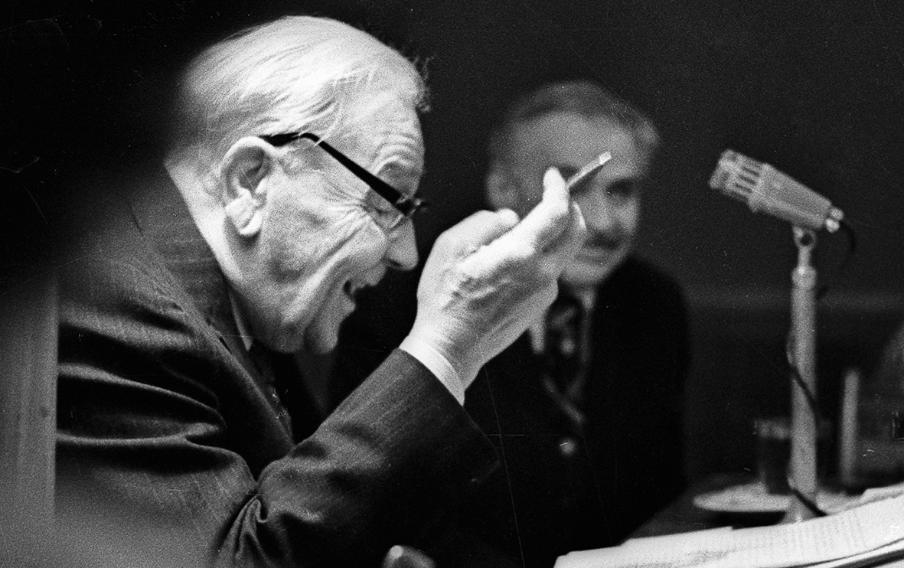8 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900–1978) – писателя и филолога, публициста и переводчика, автора ставших классикой научно-популярных книг о языке (самая известная из которых – «Слово о словах»).
Правда, сам Лев Васильевич наверняка уточнил бы этот список характеристик. «Я не языковед-профессионал, а только очень интересующийся языком и языкознанием литератор», – говорил он о себе. У филологов, впрочем, было другое мнение: по воспоминаниям Успенского, известный лингвист Б.А. Ларин однажды представил его коллегам так: «Вот этот Лев Васильевич. Тот самый, что дезертировал из лингвистики в литературу».
Но главное, конечно, не то, какая из филологических ипостасей была для Льва Успенского первична. Главное – что они «работали» вместе. Можно быть талантливым литератором и увлечься завиральными идеями о происхождении всех языков мира из русского – результатом станут тонны книг с кричащими заголовками, яркими обложками и полнейшей чушью внутри (к сожалению, такого сейчас много на полках книжных магазинов). Можно быть блистательным исследователем, но не уметь заинтересовать других своей наукой. А вот Лев Успенский соединил в своём творчестве писательский талант и глубокие научные знания о языке и его истории. Блистательный популяризатор филологической науки, он говорил просто о сложном, объяснял происхождение слов и выражений, рассказывал о фонетике, морфологии, словообразовании, лексике так, что для читателей его книг эти сухие научные термины были едва ли не названиями глав детективного романа.
Л.В. Успенский был учеником и коллегой многих великих лингвистов XX века: В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, С.Г. Бархударова, Б.А. Ларина, принимал участие в качестве практиканта в работе над составлением легендарного Толкового словаря русского языка в 4 томах под ред. Д.Н. Ушакова… И щедро делился с читателями своих книг находками и открытиями своих учителей. Именно благодаря Успенскому знаем мы сейчас про «глокую куздру» Льва Владимировича Щербы, и знаем именно в том виде, в каком её изложил Успенский.
* * *
«Всю мою жизнь я прожил в Ленинграде. Я люблю Ленинград больше всех других городов мира», – признавался писатель. Он был свидетелем всех самых героических и трагических страниц в истории Петербурга – Петрограда – Ленинграда в XX веке. Родился Лев Успенский в семье инженера-геодезиста, жившей, кстати, на Бассейной улице (ныне ул. Некрасова) – возможно, по соседству с человеком рассеянным. С самого детства в его жизни были книги и языки: ещё до школы он начал учить немецкий и французский, читал и перечитывал Дефо, Брема, обожал книги о животных. Потом увлёкся авиацией – и в 11 лет уже прочёл свою первую публичную лекцию, посвящённую аэропланам. Будущий писатель далеко не сразу начал изучать филологические науки: юношей он занимался сельским хозяйством, работал землемером, топографом, лесничим, учился в Лесном институте. Участвовал в Гражданской войне, получил тяжёлую контузию под Варшавой. Потом вернулся в Лесной институт, но вуз реорганизовали… К этому времени Успенский уже понимал, что его всё сильнее привлекают филологические науки, словесность, писательское дело – и в 1925 году он поступил на Высшие курсы искусствоведения при Государственном институте истории искусств (такое учебное заведение существовало в городе на Неве в 1912–1931 годах). В том же году увидела свет и первая научная работа Л.В. Успенского – о русском языке эпохи революции.
В 1932 году Лев Успенский окончил аспирантуру Государственного института речевой культуры. И хотя впоследствии он немало и успешно занимался научной и педагогической работой (участвовал в составлении древнерусского словаря в коллективе Б.А. Ларина, преподавал русский язык в вузе под руководством С.Г. Бархударова), главным направлением его творчества стала популяризация науки – не только филологической. Лев Успенский стал одним из организаторов Дома занимательной науки – этот музей работал в 1935–1941 годах в правом флигеле дворца Шереметевых на Фонтанке (Фонтанного дома), его научным руководителем был знаменитый педагог и просветитель Я.И. Перельман.
В 1930-е годы Успенский много печатался в детских журналах «Чиж» и «Ёж», заведовал научно-познавательным отделом в журнале «Костёр», переработал для детей мифы Древней Греции: «12 подвигов Геракла» и «Золотое руно».
Подвиги были и в его жизни – отнюдь не мифологические, а вполне реальные. Писатель был призван в армию 23 июня 1941 года. «С первых дней войны он участвовал в ряде операций, ходил не раз в разведку с бойцами морской пехоты, а также был в боях на бронепоезде «Балтиец», ведя записи под огнём и показывая пример бесстрашия…» – говорится в представлении «писателя интенданта 3 го ранга Льва Васильевича Успенского» к ордену Красной Звезды (июнь 1942 года). Военный корреспондент Успенский был свидетелем героической обороны осаждённого Ленинграда, очевидцем прорыва блокадного кольца в январе 1943 года, одним из первых увидел только что освобождённый Шлиссельбург…
Из воспоминаний Льва Успенского о жизни блокадного Ленинграда:
«Вспоминаем мы не столько холод и голод, бомбёжки и обстрелы, не одних лишь погибших на наших глазах соратников… Мы как бы заново переживаем то удивительное чувство локтя, которое владело тогда всеми ленинградцами (хотя многие из них впервые увидели этот город за несколько дней до начала блокады). И ещё одно объединяло, роднило нас всех тогда – твёрдая уверенность, что победа придёт. С этим ощущением мы просыпались каждое утро….
Тысячи раз приходилось мне и слышать, и читать: «Ленинградцы 900 дней стояли насмерть».
Мне кажется, слова эти не совсем исчерпывающи. Да, мы стояли неколебимо, действительно насмерть, но – и это главное! – во имя ЖИЗНИ».
Писатель вспоминает и такую пронзительную историю, произошедшую в блокадном Ленинграде: он узнал, что его книга для школьников «Мифы Древней Греции» поступила в продажу в магазине на далёкой окраине города – почти у самой передовой. «Я не стал торопиться, – вспоминал Лев Успенский, – кому она нужна теперь, детская книжонка? И решил сходить за ней дня через три. Но когда пришёл в магазин, книга уже была распродана». Писателю удалось заказать ещё несколько экземпляров, которые он отправил в тыл родным – а у него самого книги не осталось. Спустя много лет после войны Лев Успенский рассказал об этом случае в телепередаче – и ему подарил книгу инженер-ленинградец, который подростком приобрёл её в блокадном городе…
* * *
Наверное, мало кто знает Льва Успенского как писателя-фантаста. Тем не менее он много работал в этом жанре. Фантастико-приключенческим был первый роман писателя – «Запах лимона» (1928), написанный им в соавторстве с Львом Рубиновым под общим псевдонимом Лев Рубус. К фантастике писатель возвращался и вскоре после войны, и в последние десятилетия жизни («Плавание «Зеты», «Шальмугровое яблоко», «Эн-два-О плюс икс дважды»). Лев Успенский выступал как публицист и переводчик, писал научно-популярные книги по географии, геологии и археологии, но, говоря о нём как о популяризаторе науки, в первую очередь нужно, конечно, назвать книги, посвящённые языку.
Первой из них стало знаменитое «Слово о словах» (1954) – своего рода введение в языкознание, позволяющее даже максимально далёкому от филологии читателю понять, как устроен язык и откуда он происходит, почему языки такие разные и чем занимаются языковеды. Эту волшебную книгу можно читать и перечитывать, цитировать с любого места, но я позволю себе обратить ваше внимание на одну очень важную мысль, которую полезно всем нам помнить и сегодня: «Нет, правду говоря, языков «вообще трудных» и «вообще лёгких», как нет языков «вообще красивых» и «вообще некрасивых». Каждый язык и лёгок и прекрасен для того, кто говорит на нём с детства. А чужестранцу он обязательно даётся с трудом, большим или меньшим – это зависит уже от того, каковы языковые навыки этого самого чужестранца».
Второй книгой писателя, посвящённой языку, стала книга «Ты и твоё имя» (1960) – о том, как в истории наших имён отражена история нашего языка и нашего народа. За нею последовали этимологический словарь школьника «Почему не иначе?» (1967), «Имя дома твоего. Очерки по топонимике» (1967), «Загадки топонимики» (1969), «По закону буквы» (1973). Очень точно охарактеризовал эти книги энциклопедический словарь «Литераторы Санкт-Петербурга. XX век»: все вместе они образуют «научно-беллетристическую эпопею о жизни русского языка, сложной, долгой, изменчивой, полной драматизма, а порой и курьёзов. В союзе исследователя и писателя… [Успенский] приглашает к исследованию законов языка, приобщает, собеседуя, к нелёгкому труду добывания научной истины».
* * *
Язык живой, язык меняется, язык интересен – вот главное, что хотел сказать нам своим творчеством Лев Успенский. Не застывшая в своём величии глыба, на которую мы должны благоговейно взирать, не закостеневший механизм, а кипящий, бурлящий океан, в котором вечно всё находится в движении, всё меняется – вот что такое язык. Это не кандалы и цепи для двоечников, а пространство для «творчества и чудотворства» (вспомним другого февральского юбиляра). Современные лингвисты не устают об этом напоминать, продолжают выходить всё новые и новые научно-популярные книги о языке – но труды Льва Успенского и спустя более чем полвека остаются настольными книгами для всех, кто любит язык и хочет больше знать о нём.
Владимир Пахомов, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН