 Первые симптомы этой телеболезни появились во времена перестройки. Публика у экранов восхищалась следователями Гдляном и Ивановым, не понимая: незаметная пациенту мания очень обременительна для окружающих. Какое-то время происходящее с телевизором клиническим случаем не казалось: юрист Анатолий Собчак, скорее, символизировал почитаемую в России настойчивость в поиске правды. Прямые эфиры съездов народных депутатов тоже как будто не несли опасности. Действительно, что плохого, если жизнь граждан (со всеми их комплексами, нравственными представлениями, романтическими заблуждениями) переведена в юридическую плоскость?
Первые симптомы этой телеболезни появились во времена перестройки. Публика у экранов восхищалась следователями Гдляном и Ивановым, не понимая: незаметная пациенту мания очень обременительна для окружающих. Какое-то время происходящее с телевизором клиническим случаем не казалось: юрист Анатолий Собчак, скорее, символизировал почитаемую в России настойчивость в поиске правды. Прямые эфиры съездов народных депутатов тоже как будто не несли опасности. Действительно, что плохого, если жизнь граждан (со всеми их комплексами, нравственными представлениями, романтическими заблуждениями) переведена в юридическую плоскость?
И вот под разговоры о «правовом государстве» государство было уничтожено, а ТВ вошло в новую, постсоветскую, ярко выраженную маниакальную фазу. Экран 90-х демонстрировал смену настроения – от эйфории до раздражительности. Последнее проявлялось особенно, если возникали затруднения в реализации честолюбивых планов. Можно и дальше заимствовать формулировки из учебника по психиатрии: импульсивность сочетается с чувством внутренней убеждённости, больной часто охвачен политическими, финансовыми, сексуальными идеями, речь таких больных напористая, громкая, драматизированная…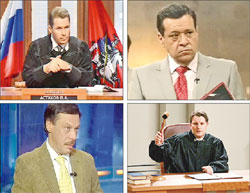 Апофеозом сутяжничества конца 90-х стала программа «Процесс». Её ведущие Александр Гордон и Владимир Соловьёв бросали жребий, чтобы определить, кто какую позицию будет защищать. И спорили до хрипоты. То, что цинизм не является добродетелью, Гордон понял быстрее коллеги и во искупление грехов ведёт теперь «самую субъективную передачу».
Апофеозом сутяжничества конца 90-х стала программа «Процесс». Её ведущие Александр Гордон и Владимир Соловьёв бросали жребий, чтобы определить, кто какую позицию будет защищать. И спорили до хрипоты. То, что цинизм не является добродетелью, Гордон понял быстрее коллеги и во искупление грехов ведёт теперь «самую субъективную передачу».
А что же сейчас? Неужели телевидение исцелилось? Посмотрим внимательно. Нет, этот блеск глаз не перепутаешь ни с чем. Принюхаемся, чувствуете запах прогорклого масла?
Нет, Дмитрия Якубовского ведущим пока не взяли – болезнь проявляется в новых формах. Театрализованные реконструкции судебных процессов поражают: с какой достоверностью люди с улицы исполняют роли свидетелей и обвиняемых, как органичны они в условности судопроизводства! Настоящие судьи облачаются в мантии, берут у реквизиторов деревянные молоточки, ждут, пока им сделают макияж, настроят свет – и вперёд, «мотор», «встать – суд идёт» – можно сыграть себя или собственное представление о себе.
Судьями становятся и те, кто таковым в заэкранной жизни не является. Бодибилдер Андрей Малахов в программе «Пусть говорят» играет, по существу, роль Фемиды, самонадеянно разбирает конфликтные ситуации, даёт оценки, претендующие на вердикт. Имеет, наверное, право – человек умудрён опытом светской жизни.
Николай Сванидзе судит время – на меньшее не согласен. Когда этот цикл исчерпает себя, последует, по всей видимости, суд над пространством, ибо пространство тоже набедокурило.
Но есть и высший суд. Корпоративный суд НТВшников, который зиждется на этике дресскода и примате фейсконтроля. Карикатурная сытость этих судей не имеет в данном случае никакого значения – важен способ коммуникации со зрителем.
Новый сезон «России 1» открыт Владимиром Соловьёвым – ещё один «процесс», на этот раз с третейским судьёй за кулисами. В дебютной передаче «Поединок» его роль исполнил Геннадий Хазанов. Чтобы довести до абсурда эстетику телевизионного сутяжничества, лучшей кандидатуры, пожалуй, и не найти.
Не зная тяжёлого диагноза, можно подумать, что телевидение выполняет миссию – развивает правовую культуру общества. Кажется, и сам больной, одержимый манией, искренне считает себя просветителем. Именно эту убеждённость эксплуатируют известные адвокаты, чтобы завоевать место в эфире. Их биографии тесно связаны с историей российского ТВ. Телевидение создавало им репутацию, расширяло клиентскую базу, пристраивало на государственную службу.
Мог бы стать «адвокатом власти» Михаил Барщевский, если бы не являлся звездой «Что? Где? Когда?», как сложилась бы его судьба без пиар-ресурса Первого канала? Телеюрист позволяет себе больше любого чиновника, например, настойчиво доказывает своё право пользоваться «мигалкой», не боясь при этом общественного осуждения. Потому что у Михаила Юрьевича есть козырь – возможность блеснуть в прямом эфире озарением и драматично потупить взор, обозначая тем самым природную скромность. Здесь необходимо отметить, что Михаил Барщевский всё-таки пользуется «интеллектуальным казино» крайне деликатно, хотя и является совладельцем ООО «Игра».
Стал бы крупным чиновником Павел Астахов, если бы не его экранная слава? «Тридцать секунд в программе новостей лучше, чем передовица в газете», – шутливо сказал адвокат в одном из интервью. Да, именно ТВ позволило Павлу Алексеевичу зарекомендовать себя в качестве универсального специалиста. Он блистательно руководит бутафорским адвокатским расследованием. В распоряжении его телеобраза ассистенты, секретарши, курьеры. С их помощью «Дело Астахова» спорится, удачно вписывается в хронометраж. Даже те участники театрализованного расследования, которые по сюжету вроде бы должны избегать встречи, почему-то приходят в декорацию кабинета Астахова, робко слушают и повинуются. В их отражении адвокат приобретает какую-то особенную мистическую власть над обывателем. С не меньшим успехом адвокат предстаёт и в роли третейского судьи. «Час суда с Павлом Астаховым» убедительно доказывает, что объективность имеет имя и фамилию, вынесенные в название программы.
Пожалуй, единственная роль оказалась не к лицу человеку с блестящими способностями и блестящими волосами. На перекрёстном допросе «Школы злословия» адвокат совсем потерял чувство юмора. Хитрая Авдотья Смирнова зашла издалека: «Мне казалось, что вы, с вашим опытом жизни в Америке, человек свободный, уверенный в себе и лишённый нашего чисто российского ханжества, когда о себе говорить нескромно – я, мол, человек маленький… Мне казалось, что вы – уверенный, знающий себе цену. Именно поэтому у меня к вам есть вопрос, надеюсь, что вы ответите на него со свободой, без этой нашей ложной стыдливости… Что вам в себе больше всего нравится?»
И Павел Алексеевич стал отвечать.
Биография Андрея Макарова могла бы лечь в основу авантюрного романа, раздражающего читателя надуманностью сюжетных ходов. Представьте героя из семьи высокопоставленных советских юристов, выпускника юрфака МГУ, сотрудника ВНИИ МВД СССР, ставшего юридическим директором фонда Сороса, затем обвинителем на процессе против КПСС, а спустя какое-то время оказавшегося на должности заместителя губернатора Кемеровской области по правовому обеспечению экономической деятельности.
Немудрено, что к 2010 году депутату Госдумы Андрею Макарову потребовался ребрендинг. Диета и телевизор – то, что доктор прописал. Сила воли, харизма и связи позволили преодолеть такое мелкое препятствие на пути к зрителю, как абсолютная нетелегеничность. Формат профессионального поиска справедливости, смелость в выборе героев (тем более показательная в связи с партийной принадлежностью к «Единой России») – от Магнитского до Трифоновой – всё это позволило Андрею Михайловичу стать настоящей телезвездой. Он изящно выводит на чистую воду, бесплатно даёт совет бывалого – депутату деньги брать не положено. Он (в рамках сегодняшних представлений о справедливости) точно выбирает цель и метко попадает в неё. Что же не так? Есть что-то кафкианское в самом выборе ведущего для программы. Почему именно Макаров? В 90-е годы, когда адвокат был в другой весовой категории (в том числе и политической), он запомнился совсем другими нравственными императивами. Адвокат боролся за «справедливость» в истории с фальшивым трастовым договором Руцкого, был самым ярым, активным юристом в когорте тех политиков, что и привели страну к той вопиющей несправедливости, которую он сейчас так яростно бичует. Выбор Макарова на роль ведущего программы с таким благородным названием, сдаётся мне, дискредитирует саму идею справедливости. Это всё равно, что какому-нибудь Мавроди доверить роль ведущего программы «Человек и закон».
Предложенный список телевизионных адвокатов, конечно, не исчерпывает тему полностью, как, впрочем, и не претендует на обобщение. Профессия эта сама по себе не может быть плоха или хороша, хотя и даёт повод задуматься об опасности. Профессиональный адвокат, защищая позицию, как правило, апеллирует к морали, общественной нравственности. Для адвоката подобная апелляция – приём, уловка, он вообще может общественную нравственность презирать, главное для него – выиграть дело, и в этом смысле всякий адвокат является адвокатом дьявола.
Так вот, когда ТВ погружает нас в бесконечный тотальный судебный процесс – в виде новостей, сериалов, ток-шоу, – рано или поздно мораль и право начинают существовать отдельно друг от друга. Апелляция к ценностным понятиям становится игрой, зрелищем – азартным и рейтинговым.
Именно поэтому адвокаты отвоёвывают для себя эфирное время, их влияние становится всё более значимым. Убеждённые либералы Барщевский, Макаров, Астахов с помощью телевидения возвращают нас к традиции дореволюционных судебных процессов, когда их предшественники, носители либеральных идей, демонстрировали яркие ораторские приёмы, театральные жесты, так востребованные публикой. В те времена развлекательную функцию телевидения выполняло судебное слушание, а юридическое поприще рекомендовалось всякому пассионарию, сулило славу и богатство.
Однако некоторые, возможно более чуткие, так и остались студентами-недоучками, бросили, ушли на другие факультеты, отказались от блестящей карьеры юриста. Блок, Ахматова, Гумилёв, Ходасевич, Волошин, Пастернак не захотели почему-то становиться нотариусами, прокурорами, адвокатами.
Действительно, какой смысл, если видишь будущее: страна, увлечённая состязательностью судебных процессов, приближается к своему концу.
