Татьяна Корованенко, кандидат филологических наук
В конце апреля правительство утвердило четыре новых нормативных словаря: орфографический и орфоэпический словари «русского языка как государственного языка Российской Федерации» (ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН); «Словарь иностранных слов» (ИЛИ РАН); «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации» (СПбГУ). Речь о них уже шла в статьях Л. Кругликовой («Словарь тревоги нашей» – «ЛГ», № 38) и С. Богданова («Регистр речи» – «ЛГ», № 40). Сегодня дискуссию продолжает бывший научный сотрудник ИЛИ РАН, автор словарных статей для «Большого толкового словаря русского языка» и ряда других словников Татьяна Корованенко.
Кто устанавливает норму?
Сразу же хочу заметить, что по традиции «Словарь иностранных слов» никогда не фиксировал норм литературного языка, был специальным словарём-справочником иного назначения, а потому его нельзя назвать нормативным (!).
Что ещё бросается в глаза – несоответствие типов словарей и их исполнителей. Институт лингвистических исследований РАН никогда прежде не занимался составлением словарей иностранных слов. Традиционно подобные словари – епархия Института русского языка им. Виноградова, в частности, их подготовкой занимался сотрудник института Л. Крысин. Из стен же Словарного сектора ИЛИ РАН, заслуженно завоевавшего в своё время репутацию лексикографического центра страны, вышло множество справочников, в том числе вся линейка толковых словарей. Были опубликованы 17 томный «Словарь современного русского литературного языка» (БАС), удостоенный Ленинской премии, «Словарь русского языка» в 4-х томах под ред. А. Евгеньевой (МАС). Завершил эту линейку однотомный «Большой толковый словарь русского языка» (БТС) под ред. С. Кузнецова, подготовленный 23 сотрудниками ИЛИ уже на коммерческой основе с первым опытом использования компьютерных технологий.
За плечами СПбГУ нет ни одного нормативного толкового словаря русского языка. Почему же тогда столь уважаемое учреждение науки и образования село не в свои сани? Ларчик просто открывается. В основе «Толкового словаря государственного языка РФ» лежит электронная база «Большого толкового словаря русского языка», ставшая, как и сам словарь, собственностью автора проекта и главного редактора С. Кузнецова (установить авторские права работавших с ним в ИЛИ коллег не удалось, несмотря на обращение в суд). Кузнецов перешёл на работу в СПбГУ. А где владелец, там и его собственность. Поэтому большинство словарных статей нового словаря повторяет содержание первоисточника вплоть до культурно-исторических комментариев, которые стали в своё время фишкой именно этого словаря.
Замечу, ни один из толковых словарей никогда не включал в своё название слово «государственный», что было вполне очевидно! Государство признавало в качестве языковой законодательной базы страны современный литературный (=нормативный) русский язык, кодифицированный толковыми словарями любого объёма.
Если Правительственная комиссия по русскому языку мыслила эти словари как некую серию, их составителям и редакторам необходимо было договориться о единстве именования того языка, который стал предметом описания. Например, орфографический и орфоэпический словари оказываются справочниками «русского языка как государственного языка Российской Федерации». В голову тут же приходит мысль о существовании иного (подпольного) русского языка, не являющегося государственным, скажем, разговорной или профессиональной речи, жаргона, наконец, русского мата…
Не менее велико удивление и относительно того факта, что написание слова зависит от стиля. Такое порой случается, но только в силу новизны слова или разных языков-посредников при заимствовании, когда графический облик ещё не устоялся. Толковый же словарь назван словарём «государственного языка Российской Федерации». Для усиления его престижа? Тогда где же здесь сам Его величество русский язык? Откуда пошла эта свистопляска?
Тяготимся «русскостью своей»?
«Государственный язык» – понятие политическое. Неслучайно оно встречается в Конституции РФ и в других нормативных актах. Официальное закрепление статуса русского языка как государственного, особенно в таком многонациональном государстве, как Россия, где он одновременно служит и языком межнационального общения народностей с единой федеральной властью, одним историческим прошлым, интегрированной экономикой и культурой, является, вне всякого сомнения, прерогативой политиков и юристов. Однако само языковое наполнение этого понятия, равнозначное, на мой взгляд, современному русскому литературному языку как языку нормативному в области орфографии, акцентологии, орфоэпии, грамматики, сочетаемости и стилистики, – преференция не просто филологов, а исключительно профессиональных лексикографов, которых, увы, остались считаные единицы.
Именно этот язык, понятный всем и каждому, берёт своё начало от Ломоносова с его тремя «штилями», оттачивается на протяжении XIX–XXI веков, обретает понятие современности, начиная с Пушкина, и трудится по сей день, обслуживая все сферы общественной активности: художественную литературу и шире – культуру в целом (историю, театральное творчество, кинематографию), науку и образование, делопроизводство, СМИ и социальные сети, наконец, наше бытовое или непринуждённое общение – разговорную речь. Его нормы закреплены в академических толковых словарях в соответствии с законами развития русского литературного языка. Академических не столько в смысле источника их появления – Академии наук, а в смысле фундаментальных принципов отбора слов и их подачи. Среди них солидная (многотысячная, а порой и миллионная) база словоупотреблений, весь банк предшествующих лексикографических изданий, собственная индивидуальная концепция словаря, коллективная оценка языковых единиц. Где всё это у нового толкового словаря, сляпанного явно на скорую руку?
Увлечение термином «государственный язык» сегодня навязано нам извне! В процессе распада Советского Союза большинство бывших республик в качестве государственного объявили свой национальный язык, вытеснив «русскоязычие» на задворки, а то и вовсе наложив запрет на его использование на своей территории. Оно и понятно, ибо именно национальный язык, отражающий единство народа, его духовную суть, самобытность и идентичность, служил весомым аргументом в пользу суверенности новоиспеченного государства. В Российской же Федерации русский язык продолжал своё историческое бытование в двух традиционных ипостасях: как язык титульной нации, с одной стороны, и язык межнационального (а нередко и интернационального) общения, с другой. Именно в таком качестве он преподносится во всех российских школах.
Давайте заглянем в любимые словари. «Советский энциклопедический словарь» (1980 г.): «Государственный язык – в буржуазных многонациональных государствах язык, объявленный обязательным для ведения документации в гос. учреждениях, преподавания в школах и т.п.» (т. е. речь идёт об определении функционально-делового стиля языка); во втором издании 17 томного словаря это словосочетание приводится только в цитате из книги Л. Успенского «Имя дома твоего» о жителях Уэллса, говорящих на английском как государственном и на своём древнем кельтском (в значении ‘связанный с деятельностью государства, его функционированием’ (т. 3, М, 1992). И только в «Толковом словаре русского языка конца ХХ столетия. Языковые изменения» 1998 г. он определён в качестве устойчивого словосочетания как язык, «законодательно принятый в качестве обязательного в официальной сфере общения: в делопроизводстве, обучении, средствах массовой информации». Но толкование словосочетания опять-таки соотносится лишь с вышеупомянутым стилем, а не языком в целом.
Что же даёт нам новый толковый словарь? Ничего. Словосочетание государственный язык в словарной статье ГОСУДАРСТВЕННЫЙ этого справочника просто-напросто отсутствует. Это притом что в аннотации к изданному СПбГУ «Толковому словарю государственного языка Российской Федерации» (хотя утверждённые словари не планировалось издавать: их электронная версия должна быть размещена в информационной системе «Национальный словарный фонд», которая скоро должна начать функционировать; пока же словари размещены на сайте ИРЯ РАН) говорится, что он «является самотолкуемым, поскольку в словник были включены все слова, используемые в его толкованиях»! Закономерно встаёт вопрос: на каком языке общаемся мы с вами дома, на отдыхе с друзьями или в соцсетях? Уверена, нет ни малейшей надобности подменять словосочетание современный литературный (=нормативный!) русский язык, узаконенное лингвистами как образец нашей речи, может быть, и престижным, но безликим титулом государственный язык, который в такой многонациональной стране, как Россия, применим к любому языку, например татарскому или чеченскому.
Совмещение слов государственный и русский, в свою очередь, не что иное как тавтология и дурновкусие, а замена русского на государственный или его пропуск встают в один ряд с фактами исчезновения креста с православного храма в первоначальном дизайне денежной купюры достоинством в 1000 рублей, появления натовского оружия и обмундирования в памятнике российским солдатам, неоправданным засильем иноязычных слов и корней (часто в латинице) – здравсити, аэросити, мебелсити, шаверлэнд, Casual, I Studio, Vapezone, Lady Sharm и пр., разъедающим нашу культуру изнутри. Не этим ли стоит заняться юристам? Приведу высказывание нашего президента с последнего Валдайского форума: «Когда я говорю «русский», имею в виду не людей этнически русских, у кого написано «русский» в паспорте. Наши ребята это подхватили, причём подхватили люди разных вероисповеданий, разных национальностей, они с гордостью говорят: я – русский солдат». Слово «русский» выступает в значении ‘общероссийский’.
«Вселенная в алфавитном порядке» или хаос произвола?
Если за термином «государственный» скрывается лишь один из функциональных стилей русского языка – официально-деловой (на данной идее и акцентирует внимание в статье «Регистр речи» С.И. Богданов), тогда ему противоречит принцип отбора слов и значений в «Толковом словаре государственного языка Российской Федерации», среди которых не может быть, например, ни существительного баня в значении ‘строгое наказание, нагоняй (задать баню, будет тебе баня), ни существительного актёр в значении ‘о том, кто притворяется кем-либо или каким-либо, скрывая истинные мысли, чувства и т. п., или позирует, рисуется в расчёте на благоприятное впечатление, успех у окружающих’, а также ни аллергии на зятя, ни барабанного хохота, ни полного ажура в ответе на вопрос «Как дела?» и др. слов, значений и употреблений разговорной речи, которые наличествуют в утверждённом толковом словаре. Ведь именно от них открещивается автор статьи, указывая на то, что они «не употребляются в сферах использования русского языка как государственного». Однако они просто «прячутся» в корпусе словаря за антинаучной пометой «только СМИ, реклама и худ. лит.», являясь в действительности принадлежностью разговорной речи. В какой рекламе могут быть использованы эти оценочные, характеризующие человека, его характер или состояние значения, если её объект – «товары и услуги»?
Каждый школьник начиная с 6-го класса знает о существовании пяти стилей русского языка: разговорного, официально-делового, художественного, публицистического и научного. Исходя из логики пометы составителей нового словаря в русском языке их остаётся только два: государственный (покрывающий официально-деловой, художественный, публицистический, разговорный стили) и научный. Имеет ли тогда право наш министр иностранных дел С. Лавров, являющийся, кстати, образцом культуры речи, использовать в своём устном выступлении перед студентами и преподавательским составом МГИМО такие слова и выражения, как чепуха, «не на тех напали!», приструнить, реагировать на каждый чих, интерпретируемые толковыми словарями в качестве разговорных? Это слова живого русского человека – раз, и талантливого лектора, знающего, как разрядить обстановку и установить доверительные отношения с аудиторией – два. Только потом они становятся достоянием СМИ. А эмоциональные выступления директора Департамента информации и печати МИД России М. Захаровой: «клянчили бы себе пособия», «дешёвка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого»? Вот уж у кого «Язык наш – многогранный, точный, верный – То душу лечит, то разит, как сталь». Где бы ни бытовали подобные слова, в художественной литературе, речах политических деятелей или выступлениях учёных, они остаются маркированными разговорной речью.
Новый толковый словарь избавился не только от пометы Разг., но и от всей совокупности эмоционально-экспрессивных помет предшественников в целом, превратив наш язык в высохшую мумию.
Скажите на милость, как, опираясь на этот словарь, правозащитники собираются отстаивать честь и достоинство граждан, если в нём нет таких помет, как бранно, уничижительно, презрительно, грубо… Предположим, один из участников прямого эфира обозвал другого «Бешеный!». Тот оскорбился. Но стоящая при значении помета «только в СМИ, рекламе и худ. лит.» допускает подобное оскорбление! Может ли новый словарь помочь учителю, борющемуся с распространённым в школьной среде ругательством «Дебил!»? Нет, конечно! Это слово отсутствует, хотя и не принадлежит к нецензурной брани – (в «Большом толковом словаре русского языка», являющемся основой для «Толкового словаря государственного языка РФ», оно маркировано пометой бранно).
«Словом можно обидеть, словарём – ушибить», – говорил адвокат Дон-Аминадо ещё в XIX веке. Оказывается, «демагогия» – это одно, а вдумчивая кропотливая интерпретация слова профессионалами в словаре – со-о-всем другое!
Надо отдать должное новому толковому словарю за его стремление к расширению границ словника. В него вошли новые слова типа блог и блогер, видеоконференция, бизнес-инкубатор, биотуалет, брейк-данс и др. Однако есть «прорывы» и иного плана. Так, в аннотации к изданному СПбГУ «Толковому словарю государственного языка РФ» именно частотность слова в ключевых сферах обязательного использования государственного языка Российской Федерации анонсирована как основа включения лексемы в словарь. По какому же тогда праву в нём отсутствует слово герой? Правомерно ли в этом случае намерение губернатора Санкт-Петербурга А. Беглова назвать зону, создаваемую на территории за Пискарёвским мемориалом, Парком Героев специальной военной операции или уместен ли тогда заголовок «Героев зовут работать на выборах» в «Петербургском дневнике» от 6 октября 2025 года? А ведь именно сейчас в слове герой появляется новый смысл – ‘об участнике СВО’. Аллея героев, время героев, появление новых героев и т.д. Хочется задать вопрос авторам словаря: звание «Герой России» уже не злободневно сегодня? И как обойтись без него учителям в «Разговорах о важном», если оно, подобно нецензурной брани, оставлено за рамками государственного языка самими юристами? То же самое можно сказать и об отсутствии прилагательного боевой. Слово военный его отнюдь не вытесняет и не подменяет полностью. Как же быть не только боевым действиям на территории Украины и Курской области или линии боевого соприкосновения, но и боевому духу, боевому братству, о которых сообщают СМИ ежедневно?
«Одному дана власть над словом, другому – над словарём»
В своё время в процессе подготовки второго издания «Словаря современного русского литературного языка» (из-за недостатка финансирования вышло только 5 из 20 подготовленных томов) редакторы издательства «Русский язык» (профессионалы высокого класса) после консультаций со специалистами в разных областях знаний настаивали на замене определений терминов энциклопедическими описаниями. К достоинству лексикографов старого поколения словарю удалось устоять, как, впрочем, и «Большому толковому словарю русского языка». А вот утверждённый в апреле 2025 года в качестве нормативного «Толковый словарь государственного языка РФ» сломался! И сломали его юристы в том числе. Я совсем не против, чтобы словарь стал защитником нашим в правовых вопросах в суде, в органах госбезопасности, в центрах занятости и др. учреждениях. Но это должен быть совершенно другой словарь, в который, помимо правовых терминов, с запретительными пометами следовало бы внести и слова нецензурные, и грубые, оскорбительные выражения, чтобы каждый россиянин, опираясь на него, мог защитить своё гражданское достоинство или, напротив, взыскать с обидчика за оскорбление! В нормативном же толковом словаре раскрытие содержания таких понятий, как адвокат, Бог, буддизм (даже с пересказом предания о рождении данного направления), безработные, геополитика и др., грешит ожирением! Давайте оставим такую квалификацию энциклопедическим справочникам.
Даже беглый просмотр электронной версии нового словаря вычленяет многочисленные огрехи и неточности в ряде толкований, особенно новой лексики: блог – не «дневниковые записи» исключительно, а биотуалет – не просто «приспособление для отправления естественных надобностей». Как узнает читатель, что такое боеготовность, если она раскрыта через отсутствующее в словаре слово боевой? Кому адресовано следующее определение существительного адвокат – ‘юрист, независимый профессиональный советник по правовым вопросам, получивший статус адвоката’? В нём содержится то самое слово, которое и толкуется… А ведь любой словарь, тем более нормативный, как и сам язык, – «это дорожная карта культуры речи» (Рита Мэй Браун).
Вот из-за таких «мелочей» новый толковый словарь и превращается в «Словарь тревоги нашей». Очень хочется, чтобы «власть над словарём» состояла из профессионалов!
«ЛГ»-ДОСЬЕ
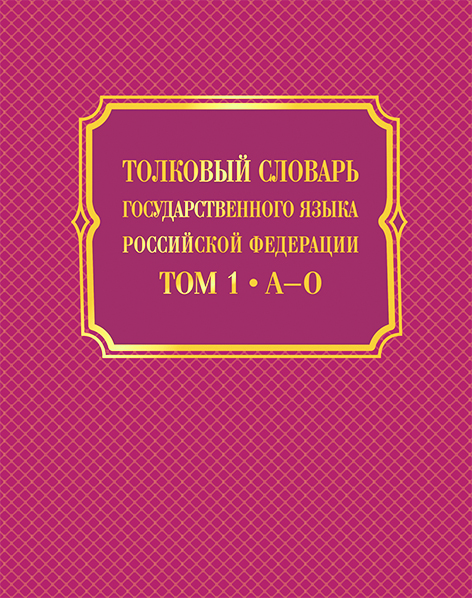
Толковый словарь государственного языка Российской Федерации: в 2 томах. Т. 1. А–О / под науч. ред. Н. М. Кропачева, С. А. Белова, С. А. Кузнецова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025. – 900 с.
Научные консультанты:
А.В. Балахонов (медицина, фармакология, физиология), В.Н. Барышников (история), С.А. Белов (юриспруденция), О.В. Блинова (лингвистика), И.Э. Васильева (филология), О.С. Верещагин (геология), О.Л. Виноградов (математика), Н.А. Головин (социология), Н.В. Гришина (психология), А.Ю. Дворниченко (история), И.И. Докучаев (философия), Е.Ю. Елсукова (география, экология), А.П. Жабко (прикладная математика), Е.С. Зорина (филология), В.В. Иванов (экономика), О.С. Ильченко (филология), М.В. Иоффе (физика), И.Н. Кашкарова (юриспруденция), О.А. Киселева (юриспруденция), В.В. Ковалев (экономика), М.С. Куропятник (социология, социальная антропология), П.А. Курындин (юриспруденция), С.С. Лачининский (география), А.Н. Лякин (экономика), В.С. Минеев (физическая культура и спорт), К.А. Морачевская (география), К.Б. Назаренко (история), В.Ю. Низамов (юриспруденция), В.В. Оглезнев (юриспруденция), И.В. Олемской (математика), С.М. Оленников (юриспруденция), В.В. Палладес (международные отношения), Н.А. Прокофьева (филология), В.Е. Пугач (педагогика), Н.В. Пысина (физическая культура и спорт), М.Л. Пятов (экономика), Н.Ю. Рассказова (юриспруденция), А.Д. Рудоквас (юриспруденция), Р.В. Светлов (теология), И.Л. Сизова (социология), О.Ю. Скворцов (юриспруденция), Ю.В. Сластенова (востоковедение), Л.В. Сморгунов (политология), Е.Л. Солдатова (пси¬хо¬логия), Н.Г. Стойко (юрис¬пруденция), С.Ф. Сутырин (экономика), Н.Г. Суходолов (химия), А.С. Тимошенко (защита конкуренции), С.Е. Федоров (история, антропология, этнография, археология), Ю.В. Федотов (экономика и управление), А. К. Худолей (геология), Н. А. Шевелева (юриспруденция).

