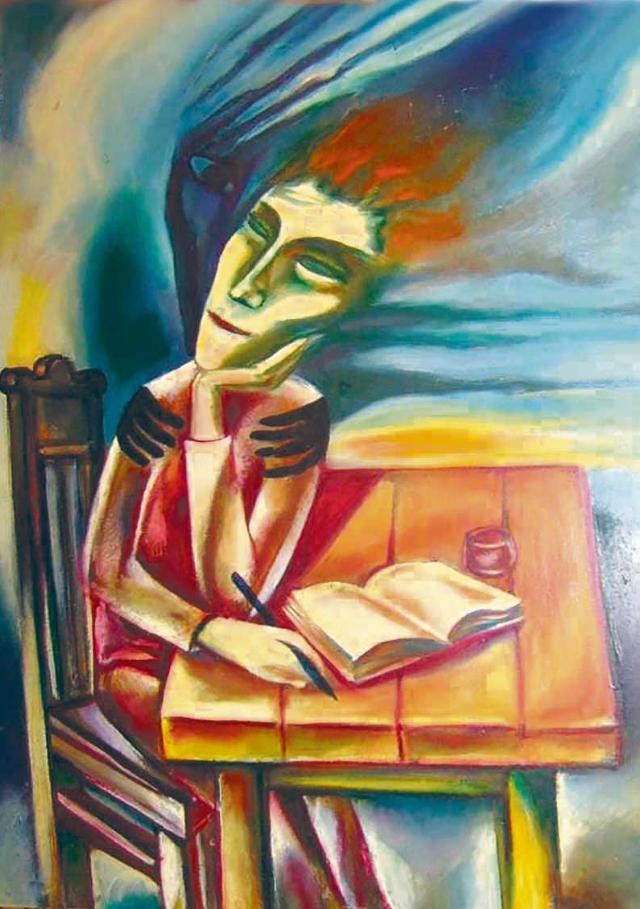
Окинем же неизменно заинтересованным взглядом поэзию, которую предъявил нам «Журнальный зал» в феврале – месяце, который, по завету Пастернака, подталкивает «достать чернил и плакать» и, разумеется, «слагать стихи навзрыд».
В февральской «Дружбе народов» опубликованы стихи молодого (но уже обладающего удивительной зрелостью поэтического и филологического мыслечувствия) поэта, переводчика, литературоведа из Еревана Константина Шакаряна (неутомимо актуализирующего незаслуженно ушедшие в тень фигуры советской поэзии – Илью Сельвинского, Николая Тихонова, Глеба Горбовского и др.), а также его переводы армянского поэта Бабкена Симоняна.
«Дружба народов» давно практикует такой интересный формат «двойного портрета», позволяющий непосредственно сопоставить две ипостаси одной творческой личности – поэтическую и переводческую. Собственные стихи поэта и выполненные им переводы бросают друг на друга смысловые блики, позволяя уловить неочевидные нюансы авторской поэтики, увидеть её в особой объёмности и многогранности.
Стихи Шакаряна объединены в подборку под названием «Читать судьбу по букварю», передающим сквозную метапоэтическую тематику стихотворений. Действительно, мотивы становления речи, обретения и сохранения поэтического голоса значимы для поэта, остающегося во времена самых разнообразных (и большей частью мертворождённых) языковых экспериментов верным живому духу традиции и тонко, бережно и осторожно обновляющего её изнутри. В стихотворении «Зеркальная азбука» буквы старославянской азбуки буквально «вочеловечиваются» в произносящего их: «Не распознаешь ни аза / Во взгляде мыслящего буки». Поверхностная, отчуждённая от живого кипения смыслов словесная игра не интересна Шакаряну, если за ней не улавливается – ещё раз вспомним Пастернака – дыхание почвы и судьбы:
Игра в слова? Ну что ж, веди,
О смысле про себя глаголя.
Судьбу свою разбереди,
Которая – и рок, и доля.
Органическая убеждённость в том, что «добро – оно добро и есть, / Как ни живи, во что ни веруй», придаёт интонациям Шакаряна твёрдость и гулкость «последней прямоты» (Мандельштам), позволяет «глядеть, покуда не ослеп, / В глаза сомнению и страху», «благодарить за явь и сон, / Зеркального познанья мету». Полноценно жить «по букве» фундаментального нравственного закона и «читать судьбу по букварю» возможно, только если чувствуешь загадочную жизнь этой самой «буквы». Язык поэта есть прямое отражение его судьбы, точнее, они отражают друг друга (не «искажая отражения» – привет Георгию Иванову): язык – судьбу, а судьба – язык.
Этот центральный для подборки комплекс мыслей и настроений, ощущение спасительной и провиденциальной опоры на живое слово, в котором напряжённо обретаются жизнь и судьба, интонации стоически «высокой» благодарности жизни, исполненной непредсказуемых утрат и несбывшихся надежд и вообще «неслучившегося», продолжают и развивают другие стихотворения: «На беспокойства наложены швы, / На расстояние – слово», «Тяжко наводит мосты ремесло / Между судьбой и бумагой» («Мы признаёмся друг другу в любви…»); «Слишком многое не отстоялось, / Оказалось навек ни при чём» («P.S.»).
В стихотворении «Из дневника» в разговор (а стихи Шакаряна – это всегда диалог с самим собой, со временем, с провиденциальным собеседником) включается Шакарян-литературовед, объясняя свою «слабость к поэтам не первого ряда» очевидной (но, к сожалению, не для инертного большинства) спорностью и уязвимостью самого формирования этих «рядов», когда «сито идеологий, тусовок и схем», «чёрная проволока катастроф» и множество других факторов разной степени случайности искажают наше вѝдение, и в итоге мы получаем:
Вместо истории – чудо-апокриф.
(Строк и времён распадается связь…)
Да надзирателя-критика окрик:
«Ну-ка, на первый-второй рассчитайсь!..»
Пара слов и о переводах Бабкена Симоняна. Будучи, по завету Жуковского («Переводчик в прозе – раб, переводчик в стихах – соперник»), «соперником» переводимого поэта, Шакарян, сохраняя ключевые принципы собственной поэтики, относится к оригиналу деликатно и бережно, точно передавая реалии и сказочный колорит древней страны («авлабарский бриллиант», «на подступах ко граду Ниш», «волшебная гора Вараг» и т.д.), оттенки эмоций, чувств, ощущений поэта, а главное – саму пластичную, гибкую музыку армянской речи, которую Мандельштам в своё время сравнил с дикой кошкой. Для каждого стихотворения Шакарян подбирает свою форму, свой размер, свою просодию, собственную интонационную разновидность воодушевлённого и воодушевляющего пафоса. Переводы отличают точные эпитеты («звонкоголосый соловей», «безлюбый век»), сильные, запоминающиеся образы («Колючей проволоке молча внемлю», «мостом светящимся ты стать должна»), умелая работа с поэтическими штампами («любовь безбрежная», «мечты волна»), которые переводчик как бы реанимирует, погружая в конкретику лирического контекста и давая им новую жизнь.
Лично меня стихи, переводы, литературоведческие статьи и критические эссе 23-летнего Константина Шакаряна убеждают в том, что он один из самых (если не самый) интересных представителей молодой русскоязычной словесности – той её ветви, которая не порывает (со свойственным молодости бунтарством) с предшествующей традицией, а благодарно и благодатно её развивает. Среди предшественников Шакаряна особо хотелось бы выделить драгоценного уральского поэта Алексея Решетова, чья удивительная звенящая и прозрачная глубина, которую так сложно подхватить, слышится порой в шакаряновских стихах (в одно из стихотворений даже изящно вплетена строчка Решетова «Ты меня бросишь, как камень, в окно»). Понятно, что сохранить подобную чистоту голоса можно только в стороне от блескучего и пестрядевого мейнстрима. По всему видно, что Константин Шакарян сам это прекрасно понимает.
Старославянский язык «окликает» в подборке «Звательный падеж», опубликованной в февральском «Новом мире» (это стихотворный дебют поэта в журнале), постоянный автор журнала «Звезда», петербургский поэт «кушнеровской школы» Александр Вергелис. Многие мотивы этой подборки «рифмуются» со стихами Константина Шакаряна. Высокий лирический накал в стихотворениях Вергелиса (порой обостряющийся до открыто трагического: «там, где вчера воронка / рваный раскрыла рот», «похоронив кого-то, / просто домой идёт»; «ранней смерти на твоём / лице лежит печать») не противоречит пафосу жизнеприятия, стихийной открытости бытию, но сообщает этому пафосу полнокровность звучания. Боль и печаль неизменно высветляются («Сегодня – ты не в силах, завтра – я. / Я – здесь, ты – там, над бездной голубою»), а сентиментальность (открывающее подборку стихотворение о «невстрече» с собственной душой так и называется – «Сентиментальное») и прозрачная элегическая ностальгия по детству, оставшемуся «по ту сторону памяти» («Та страна, что была мне когда-то судьбой подарена…») не выглядят нарочито, но растут из подлинного со-чувствия, тихого самопогружения среди «гаснущих фонарей и нимбов», «хаоса городского стылой непрогляди» и вырастают в сдержанный оптимизм («Не тужи, краевед, не печалься, поэт!»), в человеческую готовность быть сопричастным слепой судьбе: «А когда неизвестно, куда электричка летит, / по вагонам шататься – единственный выход, быть может».
Эта парадоксальная самососредоточенная витальность, светлая, энергийная печаль, к которой располагает Петербург (где «река Таракановка вечно течёт, / в Ахеронт полноводный впадая»), способна «очеловечить» даже смерть (тем самым нивелировав страх перед ней): «Но только смерть без суеты живёт», «свободой дышит только смерть». А заглавный звательный падеж («О Боже – шепчем мы, / О Господи – кричим») оказывается «особенно любим» поэтом за то, что помогает «всех позвать», запечатлеть жизнь в её весомости и зримости, воплотить её во всей полноте – в стихи:
Пока траве под стать
не довелось мне лечь,
успеть бы всё назвать,
успеть бы всех позвать
в рифмованную речь.
Завершая, как всегда, перечислю ещё несколько февральских подборок, заслуживающих самого пристального внимания: Fairytale Анны Трушкиной («Новый мир»), «Стихи» Ксении Аксёновой («Звезда»), «О трепете и о превратности жизни» Михаила Рантовича («Дружба народов»), «Бродит по улице где-то трындец-нежилец» Владимира Богомякова, «Антонина Даниловна» Александра Переверзина и «Августовские эклоги» Василия Нацентова («Знамя»), «И отнимет твой покой» Алёны Шипицыной («Урал»).
«Услышимся» через месяц!
P.S. Когда я дописывал этот обзор, пришла скорбная весть: накануне своего семидесятипятилетия ушёл из жизни Сергей Костырко – прозаик, критик, основатель портала «Журнальный зал». Без многообразной подвижнической, самоотверженной деятельности Сергея Павловича толстожурнальный литературный процесс был бы гораздо беднее и бледнее. Да и этих обзоров, вероятно, не было бы. Светлая память достойному человеку!

