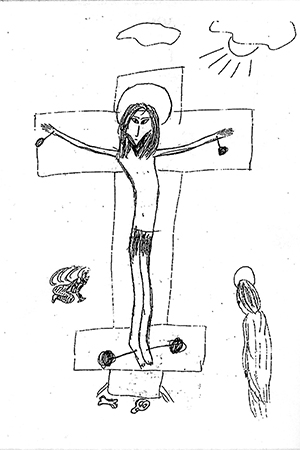
Моя школьная подруга как-то упрекнула меня: «Ты пишешь статью о русском народе, а упоминаешь Надю, а Надя – еврейка!» Удивлённая, я ответила ей, что у Нади русская мама и еврей папа. «Всё равно, – сказала подруга, – Надя еврейка!»
Всё это звучит довольно странно, когда речь идёт о Наде. Надежде Болтянской было совершенно чуждо первобытное деление людей «по группе крови». Она ощущала себя представителем всего человечества, а не русской, еврейкой или частью какого-либо иного народа.
Однако тот факт, что родители Нади принадлежали к разным и очень далёким друг от друга народам, создавал для неё большие проблемы в общении с окружающими людьми. Она жаловалась, что её еврейские друзья всегда помнили, что у неё русская мама, тогда как русские никогда не забывали, что у неё отец еврей и считали Надю больше еврейкой, чем русской. Надя говорила, что это её трагедия – трагедия детей от таких смешанных браков.
Надя жила напряжённой духовной жизнью, погружённая в постоянное осмысление и переживание событий личного существования и происходящего вне его. Она не допускала в своё творческое сознание влияния «со стороны», но, написав очередное стихотворение, очень нуждалась в оценке его другими людьми, поэтому посылала подборки своих стихов Владимиру Салимону, который очень её поддерживал и соглашался в телефонном разговоре обсудить её стихи. Также она звонила среди ночи родителям и читала им по телефону только что написанное и очень сердилась, до слёз, когда они его не сразу понимали.
Вследствие чрезвычайной Надиной чувствительности и ранимости реакция на затрагивающие её события проявлялась внешне чрезвычайно бурно, но когда все эти впечатления постепенно «переваривались» в её душе, то уже усмирённые и осознанные переходили в её стихи.
Надя была во всём очень независимым человеком и поэтому часто ссорилась с мамой, если та решалась что-то ей посоветовать, даже в бытовых делах. Она говорила маме: «Пойми, ты мне нужна не как мама, а как моя подруга, которой я могу всё доверять» – и, сердясь, называла маму «учёной дамой».
Наде было интересно прожить свою жизнь по своему собственному сценарию. Она не хотела перенимать чужой жизненный опыт, стремясь нажить свой собственный, и для неё жизнь была как путешествие в неведомое и непознанное. Возможно, что она прожила бы более долгую жизнь, если бы не эта её позиция, но тогда бы она оказалась стандартным обывателем, хорошо приспособившимся к жизненным обстоятельствам, а не лирическим поэтом, интересным своим индивидуальным восприятием окружающего мира, своими самобытными мыслями и эмоциями.
Общаясь ежедневно и даже ночью с Надей, я понимала, что ей нужна для обычного общения простая, сердечная женщина вроде няни Пушкина, с которой можно было бы «по-бабьи» расслабиться и отвлечься от постоянного внутреннего анализа всего происходящего в ней самой и вокруг.
Она пыталась найти такую собеседницу в своей свекрови, беседы с которой по телефону действительно её успокаивали, но Зинаида Егоровна была очень больным человеком, у неё была тяжёлая жизнь и много проблем, поэтому эти телефонные разговоры продолжались недолго.
Надя так любила жизнь и так доверчиво относилась к окружающему её миру, что на всех своих фотографиях она смотрит на нас с искренней радостной улыбкой. Надина улыбка была настолько ей присуща, что, когда она училась в одном из старших классов средней школы, её одноклассники-мальчики в поздравительной фотогазете в день 8 Марта с фотографиями всех девочек класса и четверостишиями под каждой фотографией написали под Надиной:
«Твоя улыбка
Сводит всех с ума!
Кого всех больше –
Знаешь ты сама!»
Когда Надя заболевала и ей становилось особенно тоскливо от унылого монотонного каждодневного существования, на которое она была обречена болезнью, она покупала какую-либо совершенно бесполезную в практическом отношении вещь, как, например, какую-нибудь игрушку, фигурку или дешёвое украшение, которое затем никогда не носила.
Когда же она стала практически лежачей больной, посылала мужа Володю в ювелирный отдел соседнего магазина купить ей дешёвое колечко, причём всегда одного и того же размера, которое она, полюбовавшись и примерив, убирала в ящик столика и не собиралась носить.
Ей было совершенно не свойственно «ходить» по магазинам для развлечения, как это делают многие женщины, чтобы разнообразить свою жизнь.
До того как Надя тяжело заболела в свои двадцать лет, она меньше посвящала маму в свою жизнь, хотя у неё и тогда была потребность непременно всё рассказывать маме, что очень удивляло её подруг. Но когда Надя узнала, что больна смертельной болезнью, то она стала постоянно нуждаться в духовной близости с мамой. Однако даже с ней она не делилась своими трагическими переживаниями, вызванными сознанием, что она может в любой момент своей жизни вдруг умереть.
Только иногда, рассердившись на маму, говорила: «Вот будешь носить мне цветочки на могилку!» Так же однажды, когда родители решились пойти вдвоём в театр, а она была уже практически лежачей больной, она сказала маме: «Как ты можешь развлекаться, когда твоя дочь так тяжело больна!»
Наде было необходимо, чтобы близкие люди полностью погружались в её внутреннюю духовную жизнь, вернее даже, жили с ней её жизнью, чувствуя и переживая все её страдания вместе с ней. И всё же при этом многое в её внутренней жизни оставалось закрытым даже от близких людей.
Когда после смерти Нади мама собрала все написанные ею стихи для публикации, она убедилась, насколько Надя была глубоким, широко мыслящим и тонко чувствующим человеком, человеком большой культуры, обладающим художественным вкусом и безошибочным чувством меры. Ей было свойственно в отличие от современных поэтов гармоничное мироощущение и восприятие окружающего как бы в космическом обобщении. Так, она пишет в своем стихотворении «Гетто» об отдельном человеке: «Один средь всех, но часть большого».
В другом стихотворении, «Год лошадей, иссиня вороных», она ёмко фиксирует состояние человечества на период времени, о котором пишет: «Пожары, снег и войны на планете…»
Ещё одно стихотворение она сразу начинает с лаконичного обобщающего замечания:
С каждым годом мир старее,
По обветренной аллее
Мимо света, мимо тьмы
Всё бредём за ручку мы.
Приведённые примеры свидетельствуют о том, что поэзия Надежды Болтянской выходит за рамки общепринятого понимания лирической поэзии как выражения субъективных эмоций автора, но включает при этом их философское осмысление, что создаёт у её стихов непременный интеллектуальный подтекст.
Хотя Надежда Болтянская не была революционером в поэзии, но, несомненно, в её стихах отражалась авторская индивидуальность и чуткость к восприятию окружающего мира. Однако они совершенно не соответствовали эталонам и традициям своего времени в том, какими должны быть стихи. Поэтому руководитель литобъединения при журнале «Юность» Н.Г. Новиков говорил ей: «Вот ты пишешь о подруге «Твоя коммуналка...», так развей эту тему и опиши, как она живёт в этой коммуналке». Для авторитетов тех лет поэзия была сродни зарифмованному газетному очерку. В своём обзоре новинок в поэзии в 1997 году в журнале «Юность» Н.Г. Новиков написал о Надином сборнике «Я – из породы длиннокрылых», что это милые стихи тяжелобольной поэтессы с описанием того, что она видит из окна. Но настоящий поэт, даже будучи тяжелобольным, видит, понимает и чувствует много больше тех, кто объездил весь свет, но не является, собственно, поэтом, хотя и умеет рифмовать.
Забавным представляется следующий эпизод из жизни Нади. В журнале «Юность» отказывались печатать её стихи, но когда её стихотворение им предложила одна присвоившая его себе дама, приписав к нему совершенно ненужное четверостишие, то его напечатали в «Юности» под фамилией этой дамы по рекомендации сестры Марины Цветаевой. Обсуждая и осуждая сборник Надежды Болтянской «Я – из породы длиннокрылых...», эти поэтические авторитеты сказали по поводу стихотворения о музыке Баха «Маняще-тревожные звуки чисты...», что, по их мнению, последняя строчка особенно неудачна: «Имеющим душу услышать даёт / орган, нам играющий Баха», не услышав своим «поэтическим ухом», что она по звучанию имитирует звучание органа. Когда я, уже после смерти Нади, позвонила последнему классику соцреализма Андрею Дементьеву и попросила разрешения прислать ему для знакомства книжку стихов Надежды Болтянской, он удивил меня заявлением: «Если она была талантлива, то почему она не прославилась?» – и у меня в памяти сразу возникла Грибоедовская строчка:
А судьи кто?
За древностию лет...
Большой удачей для Нади в её литературной жизни была встреча с человеком, тонко чувствующим поэзию, который оценил её одарённость и поддерживал её всю жизнь, – с поэтом Владимиром Салимоном.
В своей рекомендации Надежде Болтянской, данной им для принятия её в Союз писателей Москвы, он написал: «Хочу предложить принять в Московский писательский Союз поэта Надежду Болтянскую. Во-первых, потому, что считаю её достаточно одарённым литератором, а во-вторых, не без удовольствия имею возможность наблюдать развитие её дарования, ещё не полностью обнаружившего себя, от сборника к сборнику. И, быть может, главное в данном случае – любовь Болтянской, её преданность литературе, желание работать, чувствовать и размышлять» (5 июня 1997 года). При этом считаю необходимым отметить, что ни Владимир Салимон, ни Надежда Болтянская и её мама Эмилия Болтянская никогда не видели друг друга, а общались лишь по телефону и посылая Владимиру Ивановичу подборки Надиных стихов.
Когда Надежду Болтянскую принимали в Союз писателей Москвы, один из членов комиссии сказал о Наде: «Поэт милостью божьей», когда познакомился с тремя представленными сборниками её стихов «В осколках погибающих зеркал» (М., 1992 г.), «Я – из породы длиннокрылых» (М., 1997 г.) и «Пьяная ртуть» (М., 1997 г.), которые были опубликованы к этому времени. В Союз писателей Москвы Надежда Болтянская была принята единогласно.
В заключение хочу поделиться нашими семейными преданиями о маленькой Наде.
Когда Наде не было ещё и двух лет, обе её прабабушки, и русская Мария Георгиевна Макеева, и еврейская Хинда Мордухаевна Вапнер, каждый раз, когда видели маленькую Надю, восклицали: «Какой умный ребёнок!»
У Нади очень рано проявились свойственные ей абсолютный слух и музыкальность. Уже в девять месяцев от роду она очень точно подпевала укачивающей её маме «аа-аа-аа-а», а в год и два месяца, ещё не умея говорить, пела мелодию русской народной песни «Помню, я ещё молодушкой была…», которую ей часто пела мама, и все знакомые приходили послушать это Надино пение.
Так же рано у Нади проявились способности к математике и русскому языку, которым она заговорила сразу правильно и сложными предложениями.
За одарённость мама называла Надю «Мой маленький Моцарт».
Любопытно отметить, что Надина мама никогда не писала стихов, а вот в записной книжке папы были обнаружены несколько строк стихотворения, написанного в юности:
Как жаль, что невозможно
Всегда быть осторожным,
И словом не обидеть,
И взглядом не спугнуть
Тех, кто не очень нужен
Нам в жизни повседневной.
(Евгений Болтянский)
Стихи писал и даже публиковался в газете Надин дедушка, Виктор Митрофанович Земцов. Он был принят в Литературный институт, но в связи с обстоятельствами того времени стал военным инженером, учёным и вузовским преподавателем.
Эмилия Болтянская
