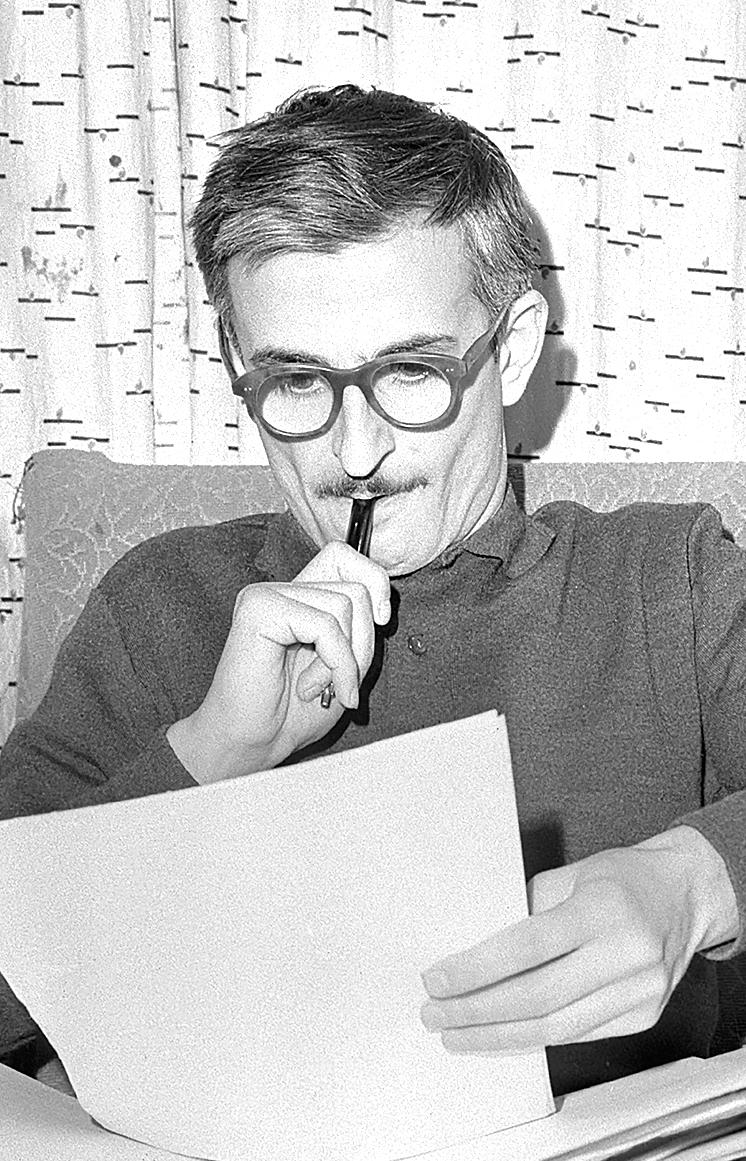
Александр Шпагин
Если бы Марлена Хуциева не было, его бы надо было выдумать. Ибо в нашем кино с каждым новым фильмом он создавал и новые матрицы понимания действительности – реперные точки, от которых лучами исходило доселе ещё неведомое понимание Горизонтали (осмысление собственного Пути в обществе) и Вертикали (осмысление своей связи с Высшим Началом).
Первая реперная точка – «Весна на Заречной улице» (1956). Сразу заявляется чёткий подход к действительности – от частной истории к общему. История любви учительницы и простого рабочего превращается на наших глазах в картину движения навстречу друг другу интеллигенции и народа в постсталинском пространстве, в первое художественное произведение, осмысливающее суть социальных процессов, происходящих в обществе. А суть была такова, что именно в 1950-е годы интеллигенция начинает проигрывать народу в подлинном понимании реальности, ибо ещё не может избавиться от тех нормативных идеологем, что и составляли образ его сознания. Шутка ли сказать! – доклад Маленкова о борьбе с последствиями культа личности, опубликованный в конце 1953-го во всех СМИ вплоть чуть ли не до «Крокодила», не понял ни один человек, ибо саму личность Маленков не назвал. Все решили, что тут перед нами борьба с гигантоманией какой-то в искусстве, в общем, что-то такое малопонятное. Ну а когда Хрущёв в 1956-м сию личность таки назвал, интеллигенция упала в обморок – и иногда в буквальном смысле слова. А народ ничего особо и не осознавал, будучи ближе к самой природе, и просто реагировал на саму жизнь, на живое её течение – и на какое-то время оказался в состоянии большего здравомыслия, нежели задавленные сталинскими нарративами несчастные образованные роботы. Но как раз именно интеллигенция и считала фильм правильно, – люди выходили с него потрясённые, – и особенно молодёжь – простая история превратилась в социальное Откровение, раскрывающее обществу чакры, задающее ему новый концептуальный и художественный импульс.
Ровно таким же Откровением становится и «Застава Ильича» (1964). Правда, сам Хуциев всегда настаивал на названии «Мне двадцать лет». И правильно настаивал, оно было принципиальным, концептуальным. Ибо самому социуму тогда было 20 лет, а точнее, его главному отряду – молодёжи, новым людям, шестидесятникам. Начали они с «ребёнков» – в фильмах «Серёжа» и «Человек идёт за солнцем», ибо поначалу сами были таковыми «ребёнками», старающимися открыть взор навстречу бытию – навстречу тому самому Солнцу, а на самом деле ещё не осознанному ими Богу, а потом быстро выросли – не по дням, а по часам. И, когда выросли, растерялись, почувствовали отсутствие твёрдой почвы под ногами. Из тёплого идеологического «отцовского» тела выпростались, а далее – туман. Опоры в виде религии нет, а мир вокруг предъявляет столь неоднозначные нравственные задачи, ставит столь неразрешимые проблемы, что абсолютно неясно, как их решать, – нет инструментария. Остаётся только иронизировать, но ирония быстро рассасывается перед всё более нарастающей тяжестью бытия. Может быть, к отцам обратиться, но они погибли, так ничего и не успев понять. И зачастую погибли, даже если выжили – «прокляты и убиты». Необходимо было выстраивать мир заново, но как, никто не знал. И в фильме уже сквозил будущий духовный проигрыш шестидесятничества.
Он перед нами и предстанет в «Июльском дожде» (1966), суть которого – перманентный разрыв всех человеческих связей и на макроуровне, в, казалось бы, нерушимых былых компаниях, былом братстве, и на микроуровне – на пространстве любовных отношений. Возникает нарастающая экзистенциальная тревога, оборачивающаяся духовным тупиком.
А фильмы у Хуциева теперь – нет, отнюдь не сворачиваются в частную историю, где, как в капле воды, мир отражается, а наоборот, сразу же раскрывают перед нами целый общественный космос, стремятся охватить его во всей целостности. И воплощается всё это с какой-то поистине уникальной творческой свободой: вот хочу и 40 минут буду показывать вечер поэтов в Политехническом, документально заснятый, хочу – и просто всё заполоню лирическими вставками жизни Москвы 1960-х. Но так же нельзя! Это уже уводит куда-то в сторону! – А мне и надо в сторону. Но, точнее, не в сторону, а вширь – во все сферы жизни, которые смогу охватить. И никто не пытается эти «излишества» вырезать, даже поспорить с ними, ибо интуитивно чувствуют: так надо.
Но исчезнет шестидесятническая вольница, проиграют шестидесятники – и отражённый образ этой усталости будет явлен в фильме «Был месяц май» (1970), рассказывающем о конце войны. Да, там выигрыш, а здесь проигрыш, но ощущение послевкусия пройденного Пути одно – безмерная человеческая усталость. Она сваливается с тебя тяжёлым грузом, но продолжает довлеть.

И придёт новое время, и потеряются в нём шестидесятники – мало кто из них уловит токи новой эпохи. В большинстве своём они смежат очи и в течение 10 лет будут серятину всякую снимать. А Хуциев просто замолчит – начнет вымучивать своего «Пушкина». Примеряться, менять исполнителей главной роли, спорить с редакторами по каким-то мелочам, а потом поймёт, что выгорел, – так ничего и не снимет, откажется от своего замысла.
В 1980-е от него уже никто ничего не ждёт. И напрасно, ибо далее начнётся Продолжение Движения по своему Пути. Движение станет откровенно метафизическим. Так, к герою «Послесловия» (1983), семидесятнику, совершенно уже заторможенному в состоянии иронической брони – той, что нарастил, спасаясь от давления бытия, к человеку, абсолютно упакованному в инертном состоянии умиротворённого цинизма, вдруг явится Бог – в виде некоего тестя, которого он никогда не видел. И Посланник сей скажет: «Оглянись, Мир Вокруг Иной!» Он гораздо глубже, тоньше, сложнее, открытее, чем твой мирок выученных тобой привычных представлений о реальности. Перестань смотреть на жизнь широко закрытыми глазами, открой своё Зрение, обрети Новый Взгляд! Герой так ничего обрести и не сможет, но, когда Посланник уйдёт, осознает чувство невыразимой тоски, неизбывной ностальгии по чему-то Большему, чему-то Высшему.
Хуциевский Бог придёт в мир неузнанным – и фильм не будет понят современниками, ибо они ещё пока останутся в своём хорошо обжитом Эммаусе, где и подлинной Вере, и подлинному Богу ещё нет места.
Итак, миссия уже вроде выполнена – даже и Послесловие к ней состоялось. Но впереди останется «Бесконечность» (1991). Задуманная как прощание с шестидесятничеством, она превратится в реквием по Утерянному Раю. Нет, даже не шестидесятническому, а по всем возможным мгновениям единения, происходившим с нами в ХХ столетии, – и век нынешний, и век минувший здесь протянут друг другу руки, органично перетекая один в другой в этом прощальном пути души, покидающей сей мир и идущей на встречу с Богом. Внутренней неосознанной тоской по Которому и был наполнен наш ХХ век, проклявший Его.
А далее – уже чистое послесмертие. Я говорю о фильме «Невечерняя» (2019), почему-то не выпущенном до сих пор. Но я его видел. И никогда бы я не подумал, что эту ленту снял Хуциев – на экране скорее чистый Сокуров. Перед нами то ли рай, то ли чистилище – в мутном свете туманных магических вязких кадров происходит встреча Толстого и Чехова, а точнее, их теней, их фантомов, их духовных матриц, которые почти не слышат друг друга. На экране Последний Поиск Диалога. Там, где, может быть, никакого Диалога и быть не может. Но – Последний Поиск, последняя мольба о Единении, о Понимании, о Постижении.
Итак, осмысление непонимания людьми друг друга. Возникшее в силу этого непонимание и самих себя. Экзистенциальная тревога, разрыв человеческих связей. Тупик, кризис. Мольба о том, чтобы Бог явил миру свой образ. Явление неузнанного Бога. Тоска по Всепониманию в пути к Нему навстречу. И послесловие к бесконечности – мир обволакивающей Вечности, из которого нет выхода. Но где так же остаётся неустанное движение к Чему-то Большему.
Нет Финала. Нет Остановки. Но мессия приходил. И миссия его завершена. Миссия состоялась.
