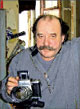 Фотографию, младшую сестру живописи, принято считать одним из самых демократичных искусств. Изначально именно художники использовали её для решения определённых творческих задач. Она и изобретена была в 1839 году Луи Жаком Дагером – французским художником. В России это изобретение получило название светописи. Пионеры русской светописи, такие как Андрей Деньер, Василий Каррик, были художниками и стремились приблизить фотографию к живописи. Основы художественной фотографии заложил Андрей Осипович Карелин – фотограф Императорской академии художеств, которую он в своё время окончил по классу живописи. Работая одновременно и в живописи, и в фотографии, он обозначил направления, по которым пошла и до сих пор развивается отечественная фотография. Мой сегодняшний собеседник – знаковая фигура современной художественной фотографии, член Московского союза художников, академик Академии фотографии Лев МЕЛИХОВ – относит своё творчество к традиции «школы Карелина».
Фотографию, младшую сестру живописи, принято считать одним из самых демократичных искусств. Изначально именно художники использовали её для решения определённых творческих задач. Она и изобретена была в 1839 году Луи Жаком Дагером – французским художником. В России это изобретение получило название светописи. Пионеры русской светописи, такие как Андрей Деньер, Василий Каррик, были художниками и стремились приблизить фотографию к живописи. Основы художественной фотографии заложил Андрей Осипович Карелин – фотограф Императорской академии художеств, которую он в своё время окончил по классу живописи. Работая одновременно и в живописи, и в фотографии, он обозначил направления, по которым пошла и до сих пор развивается отечественная фотография. Мой сегодняшний собеседник – знаковая фигура современной художественной фотографии, член Московского союза художников, академик Академии фотографии Лев МЕЛИХОВ – относит своё творчество к традиции «школы Карелина».
 – Лев, один дореволюционный журналист, писавший о творчестве Андрея Карелина, утверждал, что фотография убьёт живопись.
– Лев, один дореволюционный журналист, писавший о творчестве Андрея Карелина, утверждал, что фотография убьёт живопись.
– Ни убивать, ни даже противопоставлять фотографию живописи ни Карелин, ни его последователи не собирались. Как видите, они сосуществуют и даже не конкурируют. Конечно, техника светописи середины позапрошлого столетия осваивала и занимала часть территории, прежде считавшейся прерогативой живописи и графики, но это закономерно.
– Поэтому за фотографией утвердилось определение «младшая сестра живописи»?
– Младшая только по возрасту. Скорее – просто сестра. Фотография с живописью тесно переплетены: понятия живописности и графичности, света и тени присущи им обеим. Их роднит и общность решений – композиционных, смысловых, цветовых. Неспроста первых фотографов у нас именовали «светописцами».
– То есть художественные задачи схожи, различны способы их разрешения.
– Техники, конечно, разные. У меня, как у фотографа, решение возникает задолго до нажатия на спуск, а у живописца есть возможность изменения замысла по мере его реализации; и в этом смысле у него – карт-бланш, он может переписать, изменить. Мы – заложники мгновенного. У нас нет второго шанса, возможности видоизменить.
– Зачастую фотографию расценивают как «картинку», которая фиксирует какой-то определённый момент, отказывая в принадлежности к чистому искусству, к художественному процессу. Почему?
– Андрей Карелин, живописец, «заболевший» фотографией, организовал секцию фотографии в Академии художеств. В России искусство фотографии определённое время было полноправным художественным направлением. Большевики через пару лет после прихода к власти начали «завинчивать» художественную фотографию как не подконтрольную ситуации (например, снимаешь голодных, умирающих), не подвластную ретуши, идеологии; они выкинули её из академии, сохранив фотографию только журналистскую, где репортаж подконтролен цензуре. И почти 70 лет не было шанса у художественной фотографии. Максимально, что позволялось снять фотографу, – слеза ребёнка, роса на розе, гвоздика в стволе пушки. Всё изобразительное искусство было подчинено одному слову – соцреализм. Были великолепные фотографии Александра Родченко, Ивана Шагина, Аркадия Шайхета, портреты Моисея Наппельбаума (правда, портрет – максимально нейтральная ситуация). Эти фотографы через журналистику, через официоз смогли проявить свой талант. Но как таковой художественной фотографии у нас не существовало. Вернее, для тех, кто ею занимался, это была работа «в стол».
– Значит, второе рождение художественной фотографии в нашей стране началось уже в постсоветский период?
– Официально чуть раньше – во времена перестройки. Дали отмашку: всё разрешено, и на выставках стали появляться настоящие художественные фотографии.
– Разрешено всё… Мы знаем, во что это вылилось. Многие сделали себе имя на искусстве отрицания.
– Я против того, чтобы обгаживать нашу страну, мою любимую страну! Наша задача – вытащить её из того негатива, который создали вокруг неё. Почему некоторые фотографы, не буду их называть, сейчас имеют мировые имена? Да потому, что они «воспевали» бомжей, проституток, преступников, всю эту помойку. Они создали монстров, которые в западных музеях представляют нашу страну. И это там принималось на ура, потому что холодную войну не отменяли. На самом деле – это фотографы средней руки и, главное, не очень высокого духовного уровня. Они вытаскивали и гипертрофировали негатив, который везде можно найти. Если ты свою страну, которая тебя вскормила, решил так попинать и обгадить – это не искусство! Гораздо проще снискать славу и заработать деньги на негативе, отрицании – но это не задача творчества.
– Что для вас задача творчества, искусство вообще?
– Искусство – это то, что у тебя внутри. Для меня фотография – это всё: жизнь, любовь, суть. 40 лет назад я начал этим заниматься; сейчас навёл ревизию, просмотрел свои архивы: у меня летом выходит альбом «Книга про нас, или Знаковые фигуры моей эпохи». Из полутора миллионов портретов я с кровью отобрал 700. Это кошмар – выбирать… На одной полосе может быть бульдозерист с острова Итуруп, а на другой – президент Горбачёв, повариха с корабля, который ходит по Оби, рядом с портретом Солженицына. Показать людей своего времени, наверное, это задача творчества.
– Фотография, способная запечатлевать нюансы, передавать оттенки настроений, превращая сиюминутное в вечное, становится знаковой доминантой бытия. На ваш взгляд, её популярность в созвучности ментальности современного человека или же в доступности?
– Думаю, что второе. Все люди разные, и обобщать тут было бы неправильно. Любой может взять фотоаппарат и попробовать. И я это приветствую. Нередко возникают такие шедевры, такие «выплывают» люди – они просто не знают, что обладают способностями в фотографии.
– Так сложилось, что профессиональной считают чёрно-белую фотографию, цветная имеет реноме любительской или концептуальной.
– В основе профессиональной фотографии – композиция, а потом уже свет и цвет. Я в последнее время занимаюсь цветом, но довожу его до абсурда. Это просто пятна там, где нет деталировки. Мне интересно цвет по ощущению приблизить к чёрно-белой фотографии, а чёрно-белую фотографию – к цвету. Выразить в пейзаже, к примеру, всю раскладку цветов – рыжего поля, синего неба, белых облаков – в чёрно-белой фотографии безумно сложно.
– Как вы относитесь к отображению действительности, вернее, к её искажению при помощи всевозможных «примочек» – оптики, новейших технологий?
– Это всё замечательно, если работает на художественную задачу, если это не фишка ради фишки, не игра ради игры. Вопрос в том, что человек этим хотел сказать, зачем ему это.
– Как вы думаете, какими путями идёт развитие фотографии, каково её будущее?
– Она, вероятно, будет становиться всё более концептуальной. Фотография уже сегодня более виртуальна, символична, психологична и всё менее конкретна. Молодые иначе мыслят: XXI век, виртуальный мир…
Беседу вела
