Глава, не вошедшая в повесть «Земля Гай»
 Андрей Говорков зябко поёжился. Баянист лихо, наверное, чтобы согреться, растянул меха аккордеона и в пятый раз затянул:
Андрей Говорков зябко поёжился. Баянист лихо, наверное, чтобы согреться, растянул меха аккордеона и в пятый раз затянул:
– День Победы, как он был от нас далёк…
Владимир Абрамович Малютин, мэр района, депутат законодательного собрания Вера Павловна Ширкина, начальница районного управления культуры Элла Витальевна Тимонен и глава сельской администрации посёлка Ладвы (Андрей не знал, как её зовут) дружно подхватили:
– Как в костре потухшем таял уголёк…
Чётко, отрепетированно подхватили школьники: девочки в капроновых колготках, собранных в гармошку на тощих щиколотках, мальчики в первых в своей жизни галстучках. «Неужели же им не холодно?» – мучительно думал Говорков, натягивая перчатки.
Койвусельга, Гай, Янисярви, Пролетарский – всё это: Малютин с Ширкиной, цветы и минута молчания, речи и песни, памятники и цветы везде были одни и те же. Даже бабульки с дедульками – ветераны, блокадники, малолетние узники – ради кого, собственно, всё и делалось, везде были одинаковые. В забытом богом Гаю они даже не сразу сориентировались, что это вдруг громко, с аккордеоном нагрянула администрация. Стояли робко за ржавыми перильцами покосившегося монумента и не смели подойти.
– Были вёрсты, обгоревшие, в пыли… – дрожащими голосами затянули ладвинские старики.
Эти ничего, были посмелее, когда начальство приехало, уже ждали около памятника Великой Победы. Четыре бабульки и два деда.
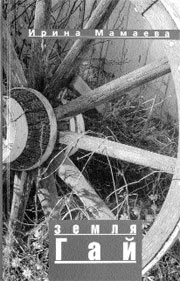 – Этот день мы приближали, как могли…
– Этот день мы приближали, как могли…
Сколько их, приближавших, осталось в живых в районе? В стране? Последний призыв двадцать седьмого года разве что. Дети войны – маленькие, голодные, слабосильные. Что они успели увидеть? Запасные дивизии, бесконечные марши по следам боёв, разминирование полей и сенокосы в опустевших колхозах. Ни настоящих боёв, ни подвигов, ни славы… Вон и медали все – в честь 10-летия Победы, в честь 20-летия…
У Андрея за весь день, что они колесили по району – месили грязь колесами, стояли на ледяном ветру, – все эти одинаковые бабульки-дедульки уже вызывали не жалость даже, а раздражение. Если бы не они и не этот бесконечный праздник, он давно бы уже написал свои десять–двенадцать тысяч знаков, покурил на пожарной лестнице со студенткой-практиканткой из бухгалтерии и шёл бы себе спокойно домой. И на душе у него было бы, как обычно в пятницу: легко и весело.
Андрей, задумавшись, сбился на третьем куплете, но тут же выправился: не петь со всеми ему всё-таки было неудобно.
Ширкиной и Тимонен хорошо: у них наверняка какие-нибудь деды воевали. Да и у Малютина, скорее всего, тоже. С детства небось рассказы про подвиги слушали. А для Андрея война – что? Страница истории? Оба деда его не воевали – не вышли годами. С мамками сидели где-то в эвакуации, ждали весточек от отцов. Что они помнили о тех годах, рассказывали что-нибудь?
А расспрашивал ли он их?.. Андрею стало немного стыдно.
Весь предыдущий месяц, выполняя задание районной газеты, он старательно ездил по деревням – стучался в старенькие избушки, бараки. Выходили ветераны – подслеповатые, глуховатые, в каких-то ужасных кофтах, платках, валенках. Долго не могли понять, что от них хотят. Андрей привычно объяснял, садился за стол, доставал диктофон и задавал стандартные вопросы: в каких войсках, в какой период воевал, где встретил Победу?
И старики преображались на глазах. Вытаскивали военные фотографии, медали и ордена, сыпали названиями частей и дивизий, именами командиров, сослуживцев, случайно встреченных в окопах земляков, молоденьких связисточек, которым стеснялись подарить принесённый букетик. Говорили, говорили, говорили…
А Андрею нужно-то было – от силы три с половиной тысячи знаков, треть газетной полосы. И времени было в обрез – выезжал он на машинах администрации, которые следовали по своим делам и ограничивали его во времени. И надо было уходить.
Старики начинали суетиться. Пытались ставить чайник. Заваривать, разливать и одновременно выкладывать на стол нехитрое угощение. Или бежали куда-то за припасённой на торжественный случай бутылочкой. Андрей, стараясь не смотреть им в глаза, гнул свою линию – прощался. И ругал себя за непрофессионализм. Если каждого пропускать через себя – не выдержать. Каждого – с его болью, бедами, одиночеством – этак ведь и свихнуться можно. Разве он виноват, что они – детьми прошедшие тяготы войны, видавшие такое, с чем никакой фильм ужасов не сравнится, герои – доживают свой век в одиночестве среди кислых щей и унылых выцветших занавесочек? Разве он им чем-то может помочь?
А не может – так и незачем расстраиваться. Сдал материал в печать – и забыл. Выкинул из головы. Будут другие даты и другие темы. Жизнь идёт, и незачем вспоминать то, что давно миновало. Если вдуматься, за что они воевали? Чтобы больше никогда не было войны. Чтобы их дети и внуки не знали, что такое война. Чтобы забыть.
– Нас жжёт огонь
смертельный.
И всё ж бессилен он.
Сомненья прочь –
уходит в ночь отдельный,
десятый наш,
десантный батальон, – хорошо поставленным голосом выводила рядом с Андреем Тимонен.
Когда-то, наверное, в хоре пела. Или даже – кто знает – консерваторию окончила по классу вокала. Мечтала выходить на сцену в длинном платье с голыми плечами и чтобы весь зал слушал затаив дыхание. Впрочем, о чём жалеть? Зарплата у начальницы управления культуры небось немаленькая, на «Хюндай» ездит…
Андрею не терпелось в город: в восемь у Петьки намечалась вечеринка, а времени уже было почти шесть.
– А нам нужна одна Победа,
одна на всех, мы за ценой
не постоим…
Андрей эту песню не знал – в предыдущих деревнях её не пели. Он поёжился, переступил с ноги на ногу: май называется – холод собачий. А небо над головой – ясное, солнце светит. Говорков задрал голову – над ним возвышался всей своей монументальной безвкусицей безликий гипсовый солдат в шинели с автоматом через плечо.
Сколько их таких стоит на просторах страны? В лесах, полях, степях – во всех мало-мальски крупных посёлках, хуторах, аулах. И лепил же их кто-то – все эти похожие один на другой памятники. Какой-нибудь бедолага, непризнанный гений, чьи вымученные ночами шедевры никому были не нужны. Мучился, мучился и сломался, взялся за госзаказ. Налепил столько, что мог ваять их с закрытыми глазами. А когда стало посвободнее, и на кусок хлеба с маслом уже было, и можно было заняться наконец чем-то стоящим, понял вдруг, к своему ужасу, что что бы он ни начинал лепить, всё равно выходил неизменный солдат с каменным лицом.
Лёха вот, штатный аккордеонист управления культуры администрации, музыкант от бога – в Койвусельге бабульки попросили какую-то никому не известную песню спеть, – прислушался чуток и сыграл так, будто всю жизнь только её и исполнял. Что он здесь делает? Нравится ему, что ли, с этой дурацкой «Вахтой памяти» по всему району таскаться, петь с бабульками скучные военные песни?
Про себя Андрей старался не думать. Объяснить себе внятно, почему он, считающий себя поэтом, не поехал в Москву в Литературный институт поступать, он не мог. Проучился худо-бедно два курса на филфаке в местном университете, окончил двухмесячные курсы журналистики и стоит теперь здесь как дурак, открывая рот, потому что не петь неудобно, а слов не знает.
– А сейчас предлагаю возложить цветы, – бодро сказал Малютин, давая понять, что мероприятие закончено. Пока кто-нибудь не попросил ещё какую-нибудь песню.
Учительница что-то негромко скомандовала школьникам, и они быстро утыкали клумбу перед монументом самодельными искусственными цветочками. Малютину кто-то подал букет гвоздик, и он торжественно возложил его к ногам солдата. За ним так же церемонно отнесла свой букетик Вера Павловна. Поселковая управляющая медленно положила свою гвоздичку, подошла к плите с именами жителей посёлка, погибших на войне. Остановилась там, скользя рукой по выбитым в камне буквам.
Люди, потоптавшись, стали расходиться. Говорков с аккордеонистом рванули к тёплому микроавтобусу. За ними залезли и расселись по местам Тимонен с Ширкиной. Позже, обсудив какие-то дела с главой посёлка и попрощавшись за руку, сел вперёд, к водителю, Малютин. Машина проехала прямо по улице, развернулась, и за окнами медленно проплыли грустная маленькая женщина и огромный гипсовый солдат.
«Это же ужасно: быть художником – и лепить дурацкие монументы. Никакого полёта фантазии, никакого тебе творческого вдохновения. Никакого самовыражения», – лениво подумал Говорков, пожалев никому не известного скульптора. В машине было тепло и спокойно, выехали на дорогу, ведущую в город, и Андрей немного развеселился, как конь, почуявший близость конюшни. Но, опережая его мысли, мэр скомандовал:
– Заедем в Лесную.
Настроение тут же испортилось. Андрей посмотрел на часы: был седьмой час. Если бы сразу ехали в город, у него ещё были шансы успеть к началу вечеринки. А с заездом в какую-то Лесную, про которую он и слыхом не слыхивал, он уже точно опаздывал. Говорков выругался про себя: сколько уже можно было петь одно и то же, говорить одно и то же, видеть одно и то же?
Заехали в Лесную. Впрочем, не в сам лесопункт – его, как выяснилось для Андрея, давно уже не было, – просто свернули с центральной дороги, долго ехали, петляя по грунтовке или просто по глиняным колеям в лесу. Остановились у очередного еле заметного в кустах памятника. Никаких людей здесь, естественно, не было. Вышли своей небольшой группкой, подошли, всё так же ёжась от ледяного ветра. Говорков с облегчением подумал, что раз нет никого, то они быстро положат цветы и смоются, но не тут-то было. Так же, как в предыдущих посёлках, все чинно встали по двум сторонам от могилы неизвестного солдата у постамента памятника.
– Великая Отечественная война принесла много горя нашей стране. Потребовалось напряжение сил всего народа, чтобы победить немецко-
фашистских захватчиков, – начал Малютин. – Благодаря подвигу героических защитников нашей родины, простых солдат, мы выиграли эту войну. Благодаря работникам тыла, работавшим практически круглосуточно, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, мы выиграли эту войну.
«Но это-то зачем! – взвыл про себя Андрей. – Никого же нет! Совсем он, что ли, спятил?!» – и покосился на Малютина. Но все, даже Лёха с аккордеоном на плече, стояли с такими серьёзными лицами, что Андрею на секунду показалось, что это он спятил. Или по крайней мере чего-то не понимает.
– Давайте вспомним тех, кто погиб от голода в блокадном Ленинграде, кто был замучен в фашистских концлагерях…
Малютин говорил не торжественно, скорее, устало. И грустно.
– У меня бабку угнали в Германию… – по-человечески, не соблюдая протокол, вздохнула Ширкина. – Вернулась в сорок седьмом.
– А у меня дед в войну геройски погиб. Бабка так всю жизнь одна и прожила. Ни за кого не вышла… – вслед за ней вздохнула Тимонен.
– А у меня прадеда убили, а прабабку с матерью угнали в Германию, – неожиданно сказал Лёха, ни на кого не глядя.
– Давайте вспомним о них и почтим их память минутой молчания, – подытожил Малютин.
Замолчали, опустив глаза.
Андрей вдруг мучительно почувствовал себя здесь лишним: ему не было грустно – ему было холодно.
Малютин кивнул, и Лёха лихо растянул меха аккордеона:
– День Победы,
как он был от нас далёк…
Как в костре потухшем
таял уголёк…
Солнце уже клонилось к острым верхушкам елей. Справа виднелись заброшенные блекло-жёлтые сухие поля. За спинами по дороге проехала машина. Лес откликнулся шумом ветра в ветвях. Андрей смотрел под ноги – под ногами через прошлогоднюю листву и хвою пробивалась редкая молодая травка. Он чувствовал себя в чём-то очень сильно виноватым, но никак не мог понять в чём.
Допели, не спеша возложили цветы и медленно направились к микроавтобусу, который уже успел развернуться. Когда выбрались на дорогу, Андрей обернулся: ему вдруг показалось, что он что-то забыл… И обомлел. Он вдруг увидел памятник, он увидел его весь целиком, не сквозь кусты, а ясно и чётко.
Это была женщина. Не молодая. Но и не старуха. Лица было не различить. И поза у неё была необычная. Как будто воздела руки к небу. Вся вскинулась к нему в мольбе. Будто просила – за сына? за мужа? за брата? – сбереги его. Дай ему вернуться домой живым. Дай ему вернуться домой с победой. Или дай ему умереть достойно, не посрамив честь солдата. Дай ему сил, дай ему веру. И к небу, к небу на цыпочках, к тому, кто выше еловых верхушек. Вскинулась… А потом – от голода, или от усталости, или от страшной вести – наклонилась вся вперёд, опуская лицо, роняя руки… Как она вообще может стоять в таком положении – подавшись вперёд, потеряв равновесие, с согнутыми в локтях руками перед лицом? Вот-вот схватится за голову, вот и платок уже сполз наполовину…
У Андрея перехватило дыхание.
Для кого она стоит здесь, в лесу, куда они едва нашли дорогу? Кто её видит? О ком она скорбит? Кажется, прислушайся – услышишь немой плач. Плач всех женщин, чьи мужчины не вернулись с войны. Разве что-то может быть забыто? Разве кто-то может быть забыт, пока эта женщина стоит здесь, в северных лесах, откуда уже и люди ушли? Разве важно, был ли у тебя убит кто-то из родственников на этой войне, когда миллионы не вернулись с фронтов?
«А ты празднуешь День Победы?» – задал на днях стандартный вопрос газетного экспресс-опроса Андрей какому-то сопливому пацанёнку, и тот удивлённо посмотрел на него: «Конечно, мы же победили».
