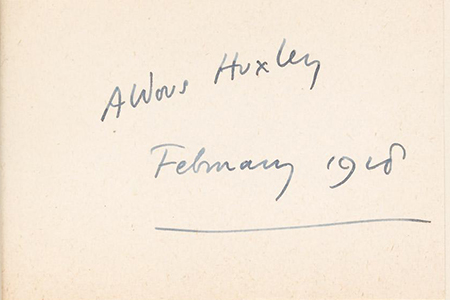Ищущему
Прайорз-Филд, Годалминг
15 июня 1908
Ищущему сей предмет да будет известно, что я, Олдос Леонард Хаксли, проживал в этой комнатушке на протяжении трёх семестров. В общей же сложности вышеозначенный ОЛХ прожил здесь целых четыре года. В школу он поступил летом 1908 года. В весеннем семестре имел несчастье заболеть свинкой (от коей исцелился лишь в середине июня), и в Лоуэр-Лардж им были спрятаны сокровища. Указания, как их отыскать, – нижеследующие. Идите до восточного окна (оно выходит на крокетную площадку). На подоконнике слева вы обнаружите медную табличку. Поднимите её – и под ней вы найдёте сокровища. И не вздумайте их потерять.
О.Л. Хаксли
Леонарду Хаксли
Вилла Б. Ла Тронш
9 июля 1913
Дорогой отец,
только что получил твоё письмо, за что большое спасибо. Денежный перевод ещё не пришёл, но ведь придёт, да и особой нужды пока нет.
Твоё письмо принесли, как раз когда я переводил Бенсона на французский. Находить подходящие слова и обороты ужасно трудно, к тому же словарь у меня размером 20 на 30 мм; впрочем, и в нём я уже обнаружил пять слов, которых раньше не знал, причём одно на поверку оказалось совершенно неверным. Так что без словаря можно легко обойтись. Читаю одновременно несколько книг, позаимствованных у abbe[1]: пьесы Мюссе, книгу Тэна о Лафонтене – ужасно интересно – и вдобавок «Оксфордскую антологию французской поэзии». Здешний народ гораздо симпатичнее, чем я думал. Есть здесь один парень, француз, немного старше меня, принадлежит, как выяснилось, к ancienne noblesse[2], живёт в окружении целого сонма немыслимо аристократических родственников. Насколько могу судить, он бездельничает (для него существуют лишь две профессии – армия и церковь), целыми днями ничего не делает, только языком болтает. Он, разумеется, роялист и – хотя графу это совершенно не обязательно – безупречно танцует танго и уан-степ; а уж в вальсе ему и вовсе нет равных.
Вчера у нас был потрясающий вечер: граф танцевал всё подряд, а пожилая дородная немка спела несколько песен и пришла в такое возбуждение (temperamentsvoll), что вынуждена была остановиться посередине – и слава Богу, иначе бы на нас наверняка рухнул потолок (…)
Сегодня накрапывает дождь, и поднялся ветер. Пыль летит в глаза, и в город на урок ехать не хочется. Тем более что на занятиях от меня ждут выступления на тему: «Англия как военная и морская держава» – целую пятнадцатиминутную речь. Дело непростое, но для французского полезно.
Твой любящий сын
Олдос
Льюису Гилгуду
Уэстборн-сквер, 27
Лето 1914
Рад, что ты умерщвляешь свою плоть на солнце Люцерна – но что такое ваша швейцарская жара по сравнению с тем, что творится у нас! «Страх и ужас, стыд и страх, берегись, отважный старый воин» и т.д. (…)
О чём ещё писать? Слишком жарко, слишком поздно, слишком всё надоело, Бог слишком плох, жизнь слишком хороша, всё в жизни слишком сложно и идёт куда-то не туда… А значит, философия невоздержанности – единственно правильная, ведь весь мир постоянно пребывает в состоянии неумеренности, избыточности. Следует действовать в гармонии с природой, переступать границы – вот только денег для этого не хватает, в этом всё дело. Были б деньги, какое прекрасное будущее открылось бы перед нами… Мы бы много курили, ещё больше пили, ещё больше думали; мы бы сколько угодно дрались, сколько угодно шлялись, сколько угодно болтали языком.
Засим в постель.
Джелли ДAрани
Черуэлл, Оксфорд
Четверг (ранняя весна 1915)
(…) Сегодня у нас настоящая весна. Солнце, синее небо, поют птицы; сердце радуется после всех этих чёрных недель с дождём и грязью. Но как же тяжело от мысли, что большинство людей ждут от весны ещё более кровопролитных боёв, чем раньше. А впрочем, чем кровопролитнее сражения, тем быстрей кончится весь этот ужас.
Не думаю, что после этой войны будут продолжать писать мрачные книги, Ибсен, Голсуорси и прочие бездари окончательно выйдут из моды. Мы снова начнём сочинять весёлые книги, как это произошло в девятнадцатом веке после наполеоновских войн, – чтобы справиться с ужасом реальной жизни. Мрачные, безысходные книги появляются после долгого мира, когда люди свыклись с благополучной жизнью. И тут кто-то вдруг замечает, что жизнь на самом деле штука довольно мрачная, и пишет об этом в своей книге. И тогда весь средний класс, который понятия не имеет, что жизнь не всегда сулит одну только радость, читает эту книгу и говорит, что автор – гений. А все глупые мужчины и женщины говорят, что другой литературы и быть не может – просто потому, что никогда не видели в жизни ничего зловещего, и мрачная книга для них – приятная неожиданность. Но война положит этому конец: люди на собственном опыте убедятся, что жизнь не раз поворачивается к ним своей теневой стороной, и тогда, чтобы увидеть светлую сторону, они обратятся к литературе, вселяющей оптимизм. Уверен, нас ждут большие перемены.
Какое же получилось длинное, глупое письмо, проповедь, да и только!
Прощай, дорогая Джелли,
Всегда твой
Олдос
P.S. Как там танцы? Так бы хотелось посмотреть, как ты танцуешь. Уверен, делаешь ты это бесподобно!
Роберту Николсу
15 Виа С. Маргерита-а-Монтичи
Флоренция
10 апреля 1925
(…) Надо бы обязательно прочитать Гёте, с которым я, увы, совершенно незнаком. Зато Паскаль – мой давний товарищ. Погрузился в Хьюма. Немного он, по-моему, небрежен, но увлекателен. Не называй Витгенштейна рационалистом: свой рационализм он использует, чтобы разобрать по кирпичикам все здание человеческого разума. Дочитав до конца эту невероятную маленькую книжку, оказываешься в пустом бездуховном пространстве, и если не отрастишь пару ангельских крыльев – рухнешь. Джентиле я не читал. Неужели бывшему министру образования в правительстве Муссолини в самом деле есть что сказать? Удивительно, но факт: с тех пор как такие философы, как Кроче и Джентиле, определяют образовательную политику Италии, государственное финансирование научных исследований свелось почти к нулю. Файхингера, думаю, прочесть придётся.
Самая насущная наша проблема – не столько философская, сколько этическая и эмоциональная. Главное – это любовь и смирение, что, собственно, одно и то же. Нет большей трудности, особенно теперь, чем питать любовь и предаваться смирению, ибо сегодня люди более одиноки, чем вчера. Равняться больше не на кого, чувство локтя утеряно, и всякий сознательный человек остаётся один в окружении таких же одиноких, как и он сам, среди разрозненных остатков былого общества, к которому он не испытывает ни малейшего уважения. Очевидно, единственный выход – это в полной мере осознать, что такое индивидуальность, истинная индивидуальность, индивидуальность «Лао-Цзы», индивидуальность йогов. И что такое общность через индивидуальность. Да, совершенно очевидно! Трудность, однако, колоссальна. А мир тем временем населён жалкими существами, которые одиноки и при этом лишены индивидуальности. Они отдают отчёт лишь в худших своих чертах (то прискорбное и типичное для нашего времени самосознание, которое исследует всё, что хорошо и красиво, пока не сталкивается с прямо противоположным) и дьявольски гордятся тем, что они считают своей независимостью и духовной проницательностью. Для них любовь и смирение невозможны. И, соответственно, невозможно добиться всего, что представляет хоть какую-то ценность. Так как же быть? Это большой вопрос. Может, когда-нибудь мне удастся найти на него ответ. И тогда я напишу хорошую книгу или, по крайней мере, зрелую, а не такую надуманную и пустую, как мой последний роман, как всё, что ныне превозносится (…)
Миссис Флоре Струсс
«Атенеум», Лондон
7 января 1929
Моя дорогая Старки,
наоборот, у меня нет никаких идей о себе, мне не нравится о себе раздумывать, я этого избегаю, причём из принципа, а когда кто-то вроде Вас этими идеями интересуется, я их выдумываю. Ибо нет совета более глупого, чем «познай себя». Что может быть хуже, чем, предаваясь самоанализу, выворачивать себя наизнанку. Если тратишь время на то, чтобы таким образом себя познать, то и познавать будет нечего, – ведь твое «я» существует только в связи с обстоятельствами за пределами твоего «я», а рефлексия, которая отвлекает тебя от внешнего мира, – это своего рода самоубийство. Художник в любом случае обязан отвлечься от реальной жизни ради вымышленного существования своих героев. Обязан – если только он (в отличие от меня) не обладает бьющей через край энергией и мощью, которых хватит одновременно на две жизни – реальную и вымышленную. Вот почему художник – последний человек, который может себе позволить раздумывать о себе. Не потому ли я страдаю эпистолофобией? Ведь трудно писать письма – официальные не в счёт, – не рассуждая о себе. В любом случае, коль скоро наша профессия требует совершать харакири с каждой опубликованной книгой и вываливать на прилавки книжных магазинов свои внутренности, переплетённые изящными гирляндами (ведь le style c’est l’homme[3]), – право же, в подобных обстоятельствах рассуждения о себе в письмах или беседах превращаются, сдаётся мне, в какой-то супероргазм. Отношение Иеговы к психоанализу всегда представлялось мне более чем разумным. «Я есмь то, что я есмь» – лучше, мудрее не скажешь (…)
Полю Валери
3 Рю-дю-Бак, Сюрен (Сена)
11 марта 1929
Дорогой мсье,
я только что с большим опозданием, но с огромным удовольствием и пользой прочёл Ваше прекрасное предисловие к «Цветам зла». Не стану утомлять Вас выражением своего глубочайшего восхищения. Не могу, однако, не сделать некоторых замечаний в связи с тем, что Вы говорите об Эдгаре Аллане По, в надежде, что эти замечания Вы сочтёте небезынтересными.
Вы пишете, что только в Америке и в Англии репутация По как поэта вызывает некоторые сомнения. И это верно. Но позвольте мне отметить, что если французы ставят По выше всех тех, кто говорит на его языке, то происходит это по той же причине, по какой англичане (как Вы написали в Вашем предисловии) не ценят Лафонтена и Расина. Для иностранцев все нюансы – как вульгарные, так и возвышенные – остаются неразличимыми. Вот почему По пользуется репутацией истинно великого поэта лишь у иностранцев, отличающихся глухотой и слепотой, пошедшими репутации По на пользу. Для нас же, у кого знакомство с его языком, я бы сказал, бессознательное, а не только сознательное, почти во всех его стихах – безупречны, возможно, лишь «К Елене» и «Город на море» – ощущается некоторая вульгарность. Вульгарность эта едва заметная, но от того не менее отталкивающая; вульгарность в выборе слов, в словесной гармонии и особенно в ритме, отдающем для многих из нас каденциями популярного вальса или польки.
Переводя «Ворона», Малларме преобразил это стихотворение примерно так же, как Бетховен – вальс Диабелли. Ритм оригинала, его пошловатая гармония (как ни странно, По, истинный аристократ, часто выражал тему Моцарта или Шопена мелодией уличной шарманки) в переводе преобразились. И знаменитое мертворождённое английское стихотворение стало французским шедевром. Другие стихотворения По под стать «Ворону» – это мертворождённые шедевры, которые становятся безупречными благодаря таланту переводчика. В оригинале же эта почти неразличимая завеса словесной и ритмической вульгарности окутывает их и, с точки зрения носителей английского языка, обезображивает (…)
Генри С. Кэнби
3 Рю-дю-Бак, Сюрен (Сена)
9 мая 1929
Дорогой Кэнби,
с большим опозданием отвечая на Ваше письмо с приложенной к нему рецензией, хотел бы сказать, что форма романа предпочтительнее формы трактата, поскольку идея в своём художественном выражении гораздо живее, чем та же идея, выраженная абстрактно. В моей книге имеются как абстрактные, так и более или менее удачно выраженные художественные идеи. Книга получилась бы менее удачной, если бы художественно выраженных идей в ней не было.
Ваш, пребывающий в спешке
Олдос Хаксли
Миссис
Кетван Робертс[4]
Ла Горгетт, Санари (Вар)
18 мая 1931
(…) Пишу роман о будущем – об ужасах утопии Уэллса и о бунте против этой утопии. Очень мучаюсь. Чтобы писать на такую тему, не хватает воображения. Но всё равно – очень интересно.
Несмотря на наши широты, солнце еле светит. Дабы доказать свою готовность разоружиться, французские военные власти собираются установить батарею четырнадцатидюймовых орудий, и не где-нибудь, а чуть ли не в нашем саду. Как же ужасны люди!
Ваш
Олдос Хаксли
Перевод осуществлён по книге: Letters of Aldous Huxley. Edited by Grover Smith. Harper and Row Publishres, New York and Evanston, 1969.
[1] Аббат (фр.).
[2] Потомственная аристократия (фр.).
[3] Стиль – это человек (фр.).
[4]Кетван Робертс – лондонская приятельница Хаксли, переписка с которой продолжалась более четверти века.