Подводим предварительные итоги «Русского Букера»
3 декабря будет вручена очередная премия «Русский Букер». На одну из главных литературных наград года претендуют шесть романов, три из которых уже были обласканы вниманием различных премиальных жюри. Тесен литературный мир, все мы в нём, как в одной лодке…
Было время, литпроцесс выстраивался вокруг журналов. Журналы были (и остаются) выразителями мировоззренческих позиций; их издателей, авторов и читателей объединяли сходные убеждения. Фигурантов литературных премий (каждая из которых тоже своего рода общественный институт) объединяют не убеждения, а интересы. Различие простое: убеждение – это когда человека в первую очередь волнует, что будет со всеми (с нацией, сословием, социальной группой), и только потом уже – что при этом будет «со мной». Интересы – когда строго наоборот. Живя в государстве, где в первую голову принято печься о собственных корпоративных активах и только потом о народе, мы уже и не помним, что когда-то было иначе. Что когда-то русская литература была «литературой идей», для её героев «убеждения» (мысли о мироустройстве) были важнее личного конкретного блага. 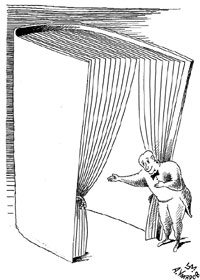 То была литература мирового масштаба, никак не меньше, это и позволило ей так быстро выделиться в ряду «старших европейских сестёр».
То была литература мирового масштаба, никак не меньше, это и позволило ей так быстро выделиться в ряду «старших европейских сестёр».
Сегодня той литературы нет и в помине. Есть премия с макароническим названием «Русский Букер» (этакий «иностранец Василий Фёдоров»), но вешать на неё за это собак бессмысленно: каждое общество имеет те литературные институты, которых заслуживает. Расслабимся и будем получать удовольствие.
МОСТ НАД БУРНЫМИ ВОДАМИ
Какие всё-таки молодцы наши букеровцы! Их «короткий список» наполовину совпадает с «короткими списками» двух других крупных премий, а это значит, что вместо шести книжек достаточно похвалить три – об остальных «Литературная газета» уже писала.
Замечательный роман Галины Щёкиной «Графоманка»! Эпиграфом к нему могли бы стать слова Цветаевой: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд». Трудное восхождение к успеху «Графоманка» начала в далёком 1996 году в бревенчато-колокольной Вологде. Много было трудностей на пути: и досадная удалённость от литературно-издательских центров, и косность местного отделения Союза писателей, и даже сам «известный писатель Радиолов, корневик и душелюб» лично. Не по нраву пришлись душелюбу женские, а-ля Молли Блум, излияния, не ко двору оказался корневику образный народный язык: «С перепугу было поехал, потом, проморгавшись, забоговал, загаял. Ларичева побежала, спасибая на ходу». Понюхал корневик Радиолов «Графоманку» и заколдобился. Ларичева сникла, не сдюжила, закопалась в быт, а Галина Щёкина не сдалась и донесла-таки роман до читателей.
Но если вы с трудом продрались сквозь предыдущий абзац, осилить «Графоманку» вам будет ещё сложнее: женская проза девяносто шестой пробы не допускает мужского волевого волюнтаризма с раскладыванием явлений жизни по полочкам, в ней всё кружится, вертится, вываливается из шкафов, булькает, переливается через край, кипит. Скотине задала, тесто поставила, бельё замочила и бегом на рынок, а по пути сына в сад, да на родительское собрание, да другой ногой в лито заскочить, где корневик сидит, ухмыляется. Такова жизнь. И если вам от неё неуютно, кружится голова, тошнит, читайте лучше «Библиотеку фантастики». А у нас тут премия за лучший роман.
ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ
Замечательный роман Германа Садулаева «Таблетка»! Лучше Пелевина и немножко хуже «Войны и мира». С творчеством Пелевина роман роднит «метросоциальность» и «молодёжность». Метросоциалы – это жители больших городов, которых очень занимает проблематика дорожных пробок и не на шутку волнует описание тягот офисной жизни, а молодёжь – это те, для кого после цитаты из «Интернационала» ставится сноска: «Революционная песня». Кроме того, молодёжь любит сцены соития, мастурбации и прочие физиологизмы, которых в романе вдоволь (а если их долго нет, автор извиняется и обещает, что скоро будут: оставайтесь, мол, на нашей волне, не переключайте каналы).
Ещё, чтобы молодёжи было интереснее читать, по тексту аккуратно расставлены грамматические и стилистические ошибки, например: «играли в одной группе вместе с Ильёй» (а не просто «в одной группе») или «пахнущий мочой привокзального туалета» (вместо «из привокзального», ибо у туалета собственных почек нет). Это не потому, что автор безграмотен. Это для того, чтобы его лучше поняли.
Все кажущиеся недостатки романа на самом деле не что иное, как оборотная сторона его достоинств. С «Войной и миром» в высшей степени достойный роман «Таблетка» роднят обилие иностранной речи (только не французской, а уже, понятно, английской) и мерная тяжёлая поступь масштабных философских отступлений – иногда неглупых, иногда просто масштабных. Собственно, весь роман из этих отступлений и состоит. (Потому он и хуже «Войны и мира» – там всё-таки ещё и фабула есть.) Часто для очередного отступления выделяется отдельная главка, но мощный ум автора этим не довольствуется и следом вставляет вторую главку-отступление, а прямо в неё, в скобках, – ещё одно «отступление от отступления».
Это опять-таки не потому, что автор не владеет формой или публицист заел в нём художника. Это потому, что молодые метросоциалы, вскормленные на авторских колонках в журнале «ОМ», именно к такому типу литературного высказывания привыкли. К прямому, лобовому, не опосредованному через «образы», «конфликты», «коллизии» и тому подобную позапрошловековую чушь. Почему сегодня Достоевского стало нельзя читать? Потому что у него смысл запрятан в этих самых коллизиях и обо всём приходится догадываться самому: кто прав, кто виноват и, главное, КАК НАДО. А у метросоциала времени нет догадываться – он в пробке стоит.
Вот этим, собственно, роман «Таблетка» и лучше Пелевина: всё-таки у того тоже о чём-то самому догадываться нужно, а тут всё сразу чётко и толково разъяснено. И про пробки, и про систему кредитования, и про технологию глубокой заморозки продуктов, и про Бритни Спирс, и про великий и ужасный Китай. И про то, что мир – это иллюзия, существующая в наших головах, а мы – пленники этой иллюзии. Если эта мысль не заставляет вашу спинно-мозговую жидкость закипеть от радости мгновенного узнавания, читайте лучше «Библиотеку приключений». А у нас тут премия за лучший роман.
ЗОЛОТОЙ ХРАМ
Лучший роман в нашем «секвестрированном» букеровском коротком списке – это, без сомнения, «Щукинск и города» Елены Некрасовой. В нём всё самое-самое: и пенсне, и сюртук, и мысли.
В популярной музыке недалёкого прошлого был такой звукорежиссёрский термин – «стена звука». Это когда звук записывается с перфекционистской тщательностью: ударная установка, например, пишется аж с десяти микрофонов, по отдельному микрофону на барабан. В результате получается совершенство на грани переносимости. Методом «стены звука» был записан, например, альбом группы «Пинк Флойд» «Стена». И роман Елены Некрасовой написан именно так. Множество тем, сюжетных линий и отдельных мотивов, диалогов и интонаций стекается к алтарю смысла, каждый со своей лептой. Авантюрный жанр, мистика и бытописание сплетаются, как принято говорить, «в масштабное полотно», тщательно расшитое гладью безответных, а потому, наверное, и «вечных» вопросов: кто мы, откуда мы, куда мы идём? И куда пришли те, кто уже ушёл.
Всё это, разумеется, не могло не повлиять на нервную систему читателей: отзывы о романе колеблются в диапазоне от потрясённо-благодарных до восхищённо-уважительных. Но даже у величественной группы «Пинк Флойд» образовалась со временем армия неблагодарных хулителей. Дескать, шлифовка содержательной формы (и огранка формообразущего содержания) убивает главное в рок-высказывании – искренность. А искренность, она, как камень, на дороге лежит, с нею ничего делать не нужно. Непонятно ведь, как сделан камень. Он просто есть. А как сделан роман «Щукинск и города», понятно. Щепотка того, щепотка сего…
Короче говоря, роман «сделанный». Отчасти рецензентами, склонными почему-то усматривать в нём совершенство за совершенством: «Ах, какие диалоги!.. какой внутренний мир!» На самом деле диалоги не ах, довольно монотонные и однообразные. А во «внутренних мирах» юной провинциалки Тани и её немолодого дяди-эмигранта одни и те же интонационные многоточия, родовые пятна «женского почерка». У Юкио Мисимы был роман о монахе, который поджёг прекрасный Золотой Храм, потому что тот терзал его своим совершенством. Так вот, уважаемый читатель, которого превратности судьбы довели до этого места, предупреждаю. Не верьте рецензентам проклятым! Всё нормально с «Щукинским…», обычный роман. Можно читать. А кому «дадут» – какая нам с вами разница?
. Ор (Повесть «Ор», роман «Графоманка»). – М.: Тель-Авив: ЭРА, 2008. – 412 с.
Таблетка: Роман. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2008. – 240 с.
Щукинск и города: Роман. – М.: Флюид, 2008. – 336 с.

 Лев ПИРОГОВ
Лев ПИРОГОВ