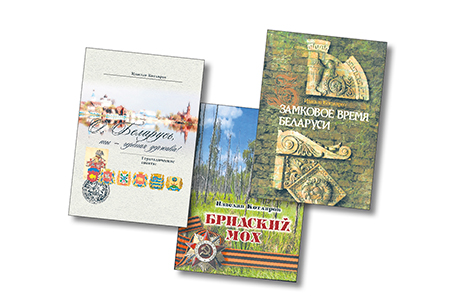Поэтический триптих Изяслава Котлярова («О, Беларусь, ты – гербная держава! Геральдические сонеты» (Минск, «Беларуская навука», 2019), «Замковое время Беларуси: летописная поэма» (2020), «Бридский мох. Книга поэзии о Великой Отечественной войне и послевоенном времени» (2020) – утончённый и благодатный пример гармонии как способа и формы постижения исторической правды, неотъемлемой от человеческой судьбы лирического героя и самого автора.
Большой советский мир у автора этой трилогии самобытно органичен. Национальный космос, вобравший столетия, свой новый простор обретает в советской эпохе. А если говорить совсем начистоту – то в союзном укладе жизни, мысли, чувствования, гармонии. И пусть это пока ещё для всех нас страна «Нигдея» (так называется одноимённая поэма из книги «Бридский мох», посвящённая памяти СССР), недостижимая пока, но обетованная земля. Пусть для кого-то даже «Земля Санникова», взлелеянная в самых смелых надеждах и дерзких мечтах. Но почему же ему и не быть, тому миру, который устроен будет для всех нас, который встретит не суровой непреклонностью границ, а раскрытыми навстречу объятиями?
«Замковое время» этого мира, кому дано имя Беларуси, бесконечным свитком летописной поэмы не только увлекает в глубь веков, но позволяет почувствовать глубину истории под покровом современности. Дворцы и хижины, преображённые великой советской историей, теряют свой антагонистический азарт («Но без хат и замков бы не стало»), как в «Гербной державе» смиряет свой воинственный норов белорусская «Погоня» на гербе Могилёва. Образ малой Родины, согретый любовью, обезоруживает древнего сурового воина, призывает его вернуться к мирному служению, столь востребованному ныне. И напротив: сонет, где воспет герб современной Беларуси, делает её наследницей великой истории, в которой советское прошлое было не казусом и недоразумением, а воплощением воли к всеобщей справедливости и счастью: «Хоть без щита, но со щитом, – // он так округло ощущаем… <…> Герб дышит силою земною // под путеводною звездою» («О, Беларусь, ты – гербная держава!»).
Поэтическое зодчество Изяслава Котлярова управляется с глыбами, посильными не каждому. А только тому, для кого «на родине – и камень как подушка» («Бридский мох»). Просветлённость, воздушность, духоподъёмность чувств отнюдь не противятся тому, чтобы «ученик вечности» (как называется одна из книг поэта) предстал в бескорыстном служении ей в том облике, историческая конкретность которого только делает достоверным масштаб истинных свершений, не прощающих предательства:
Я – тот же октябрёнок, пионер,
воспитанник одной, всеобщей славы.
Я всё ещё живу в СССР –
простите, сопредельные державы.
Мои, как прежде, Минск, Москва, Баку,
и Киев мой, и Кишинёв, и Таллин…
Я всё ещё представить не могу,
что Вильнюс, Ялта – заграницей стали.
(«Бридский мох»)
Но исторического бессилия или ностальгии, которая не обещает скорого воздаяния за чистоту помыслов и бессребреничество поступков, в этих строчках не меньше, чем в потрясающем «Монологе убитого советского солдата» из книги «Бридский мох»:
Не знаю, чья тут совесть виновата
и чей здесь долг в немыслимом долгу…
Из каменного нынче автомата
отстреливаться даже не могу.
(«Бридский мох»)
Кто из тех, кто дорожит человеческим предназначением и достоинством, покаянно не склонит свою голову перед таким бессилием? Кто устоит перед неодолимой силой этого бесссилия, в немощи каменного солдата обретая не только свою будущность, но и саму плоть, согретую живой, горячей кровью и к жизни возродившуюся?
Книга «Бридский мох» открывается документальной поэмой «Ола». Истинное Слово сопричастно жизни, но вряд ли превосходит её. Покорно ли Слово жизни убиенной? Двенадцать Хатыней, сожжённых гитлеровцами в один январский день 1944 года в светлогорской деревне Ола, наложили печать молчания об этой трагедии на долгие десятилетия. Однако Слово превзошло смерть. И это было слово Изяслава Котлярова. Прежде чем прочесть его поэму, посетите мемориал «Ола», который только благодаря неустанному подвижничеству поэта и гражданина, сына времён, дарованных ему судьбой, и ученика вечности, в июне 2020 года восстал на многострадальной, выжженной войной земле. И пророчески, будто повинуясь провидению, загодя воспротивился белорусской смуте священными камнями нашей памяти, из которых рождён мемориал. И никакая ярость, никакое временное озлобление больше не в силах эти камни разбросать без того, чтобы и самим не быть погребёнными под обломками наших святынь.
Пожалуйста, услышьте безмолвные голоса Олы в творчестве автора! Поэт не искал им рифмы. Его собственная боль породнилась с ними.
Эти голоса так долго молчали.
Для нашей памяти и для нашей совести – непростительно долго.
Но вот Слово наконец произнесено.
Дай Бог, чтобы и оно тоже было В НАЧАЛЕ.
Иван Афанасьев,
заведующий кафедрой русской и мировой литературы Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины