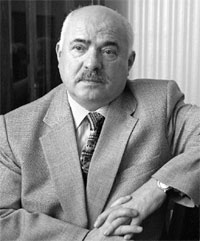 В то, что Николай Чергинец в этом году отмечает своё 70-летие, как-то не верится. Его энергии могут позавидовать многие из тех, кто ещё ходит в молодых. Член президиума и председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии по вопросам внешней политики Парламентского собрания Союза Беларуси и России – казалось бы, где тут находить время, чтобы писать. Но он находит. Да ещё, к тому же, возглавляет недавно созданный писательский союз, рождение которого одни литераторы восприняли как – ни много ни мало – удар по национальной литературе, другие, наоборот, увидели в этом спасение для неё. С этой темы мы и начали наш разговор.
В то, что Николай Чергинец в этом году отмечает своё 70-летие, как-то не верится. Его энергии могут позавидовать многие из тех, кто ещё ходит в молодых. Член президиума и председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии по вопросам внешней политики Парламентского собрания Союза Беларуси и России – казалось бы, где тут находить время, чтобы писать. Но он находит. Да ещё, к тому же, возглавляет недавно созданный писательский союз, рождение которого одни литераторы восприняли как – ни много ни мало – удар по национальной литературе, другие, наоборот, увидели в этом спасение для неё. С этой темы мы и начали наш разговор.
– К сожалению, белорусская литература постсоветского периода долгое время находилась в состоянии, похожем на стагнацию. Некоторые писатели занялись политиканством, в том числе и в своих произведениях, не заботясь ни о судьбе писательской организации, ни о судьбе белорусской литературы. И это привело к тому, что у нас не появилось новых выдающихся писательских имён. Увы, некоторых наших литературных корифеев такое положение дел вполне устраивало. Они думали только о себе, желая как можно дольше оставаться «на слуху», оставаться и в литературе, и в жизни государства. Это была попытка группы лидеров писательской среды времён Советского Союза, обласканных прежней властью, получивших определённые награды, квартиры, звания, войти с тем же багажом в новую, современную жизнь страны и, уповая на важность своей персоны, потребовать от государства особых привилегий. Я вспоминаю, как некоторые из этой категории писателей мечтали: мол, скорее бы наступили рыночные отношения. Они наступили у нас ещё наполовину, но уже стало совершенно ясно: многие писатели из тех, кто ратовал за рынок, к нему не приспособлены. Сегодня все издательства, в том числе и пользующиеся государственной поддержкой в финансировании, перешли на новые экономические формы работы, считают деньги и учитывают читательский спрос. Понимаете, если бы та писательская верхушка, те писатели, занявшие позицию чисто политического характера и враждебную власти и сами себя считающие поводырями всей писательской братии в Беларуси… Если бы они вошли в какую-то партию, ходили со знамёнами по улицам и так далее – Бог с ними. Но они сделали страшную ошибку: они пытались прикрыться писательской массой и выдать свою политическую антигосударственную деятельность за политическую антигосударственную деятельность всей писательской организации страны. Мы это видели, и ещё лет пятнадцать назад стали призывать прекратить это безобразие. Свидетельство тому – наши заявления в прессе, которые, среди прочих, подписывали и Танк, и Шамякин, и Науменко. Мы предупреждали: давайте, братцы, заниматься литературой, а если кто-то хочет заниматься политикой, пусть занимается сам, индивидуально. В противном случае это приведёт к тому, что писатели, которые не согласны с линией тех, кто занимает антиправительственную, антипрезидентскую позицию, создадут свою организацию, которая отвечала бы их духу. И, в конце концов, так и получилось. Конечно, мы столкнулись в этой ситуации с нападками на нас – оголтелыми, совершенно несправедливыми, клеветническими. Как и чьими слугами нас только ни называли… Но мы слуги литературы. И наша главная задача, отражённая в уставе организации, – возродить литературу родной Беларуси. А так как у нас по Конституции два государственных языка – белорусский и русский, мы заявили: не важно, на каком языке писатель будет писать. Главное, чтобы его произведения служили интересам народа. Хотя, в любом случае, произведений на белорусском языке, созданных писателями нашего союза, издаётся не меньше, чем представителями другой творческой организации. И я считаю, что мы, начав с малого, очень быстро встали на ноги. Сейчас в наших рядах около четырёхсот человек. Многим отказали. Были и обиды, но для нас главный критерий – литература.
– Как вы считаете, почему сегодня российский читатель так плохо знаком с современной белорусской литературой?
– Дело в том, что некоторые писатели из того союза превратились в своеобразных менеджеров по проталкиванию лишь своих произведений или произведений своих единомышленников, писателей своего узкого круга. Хотя, не скрою, хорошие произведения должны издаваться, и мне безразлично, кем они написаны. В этом плане наша организация занимает чёткую позицию. Мы должны поддерживать всё талантливое, невзирая на какие-то свои литературные пристрастия. Почему я настаивал, когда мы только создали свой союз писателей, чтобы были образованы бюро пропаганды и обязательно секция литературной критики. Проблема в том, что даже наши литературные журналы мало уделяли внимания этим вопросам. А мы убедились: не будет литературной критики, причём критики справедливой, здоровой, направленной на то, чтобы помочь автору писать лучше, – не будет у нас хороших произведений. В то же время у нас есть немало писателей, которые заслуживают того, чтобы их читали не только в Беларуси, но и далеко за её пределами. Это Михась Поздняков, Раиса Боровикова, Владимир Каризно, Владимир Скоринкин, Геннадий Пашков… И некоторые из них ведь ещё на должном уровне не оценены читателем, обществом. И тут уже забота союза писателей, чтобы это произошло. Очень хорошие стихи есть у Анатолия Аврутина, Тамары Красновой-Гусаченко. Не могу не сказать о Георгии Марчуке, нашем маститом прозаике, которого в своё время пытались притеснять только из зависти, я бы так сказал. Как не вспомнить Анатолия Сульянова, корифея нашей военной литературы. Или взять глубоко психологические произведения Виктора Правдина, написанные в детективном жанре. Тот, кто говорит, что детектив – лёгкий жанр, ошибается. Я уже не раз приводил пример того, как за это дело в своё время брался Иван Петрович Шамякин, но вскоре бросил и сказал: да ну его, запутаешься тут, столько нужно логики, размышлений. Вроде и шутил, но, тем не менее, сказал правду.
– Вы пришли в литературу в начале 70-х годов, когда в ней преобладали сельская и производственная тематики, и уж никак не так называемые «лёгкие» жанры. Вы не думали о том, что как автору детективов вам будет тяжелее получить официальное признание, чем другим?
– Я всегда считал, что писатель должен писать о том, что он хорошо знает. И, в общем-то, не видел противодействия по отношению к себе со стороны критики или издателей. Другое дело, что я иногда чувствовал лёгкий упрёк в том, что пишу по-русски. Я объяснял: так сложилась жизнь. Я уроженец Минска. Родился в том самом печально знаменитом 37-м году, и моё детство, начиная с 4 лет, прошло в оккупации. Немцы выгнали нас – мать и восьмерых детей, восьмого ребёнка, девочку, она родила как раз накануне войны, – из собственного дома. Мать нашла брошенный дом, мы в нём жили с сорок первого по сорок четвёртый. А потом вернулся хозяин, и мы снова оказались на улице. Наконец, получили комнатушку, наверное, метров шесть, в полуразваленной хибаре, где жило много других семей. Отец в сорок пятом пришёл с войны без ноги. В голоде жили… Затем я пошёл учиться в тринадцатую среднюю мужскую русскую школу. Не было белорусских. И в этой школе белорусский язык и немецкий преподавали на равных условиях, что, конечно же, не давало возможности получить достаточный уровень знаний и не прививало чувство необходимости белорусский знать в совершенстве. Конечно, тот, кто пришёл в литературу из деревни, намного лучше меня знал белорусский язык, знал в том необходимом объёме, чтобы писать на нём. А насчёт жанра, в котором я начал работать… Мои книги всегда шли очень хорошо, были хорошие отзывы. На всесоюзном уровне они отмечались грамотами, премиями. Например, повесть «Финал Краба» завоевала вторую всесоюзную премию. Причём первая в тот раз вообще не присуждалась. Я прожил большую жизнь, и она была связана не только со службой в органах внутренних дел. Поэтому появились такие романы, как «Вам – задание» о деятельности белорусов во время Великой Отечественной войны – в партизанских отрядах, в тылу, на фронте. Мне кажется, что он ещё до конца не исследован критикой. Он о Беларуси, чем я очень горжусь. Или возьмём, к примеру, роман «Пилоты безумия». Там есть многоплановые срезы жизни: это и плен, и борьба с терроризмом. Кстати, в нём упоминается о террористической организации, которая пыталась атаковать высотки в Нью-Йорке и которая в реальном мире, увы, появилась через шесть лет после выхода романа. Я помню, когда это случилось в Нью-Йорке, мне многие читатели звонили и писали, называя этот роман романом-предвидением.
– А о своём детстве вам никогда не хотелось написать? Или, к примеру, о юности? Вы ведь были профессиональным футболистом, выступали за разные клубы, и не только белорусские.
– Меня, кстати, многие спрашивают, почему я не хочу написать о футболе, о своём детстве. Я действительно задумывался об этом. Но мне показалось, что может получиться довольно мрачное произведение. А может, и мелкое, неинтересное для читателя и даже для меня самого. Хотя, может, когда-нибудь и вернусь к этому.
– Один из ваших самых известных романов называется «Сыновья». Он об Афганистане, где вы находились с 1984 по 1987 год, принимали участие в боевых действиях, были ранены. Вы следите за книжными и киноновинками на эту тему?
– Сейчас модно показывать много крови. Я, конечно же, не преследовал такой цели. Мне хотелось затронуть пласт, которого никто не касался: состояние души родителей, чьи сыновья оказались там. И, я думаю, этой темой попал в точку, потому что после выхода романа получал тысячи писем от этих родителей. Представьте себе состояние матери, которая ждёт сына: она каждое утро бежит вниз, к почтовому ящику: нет ли письма от сынка. А если есть письмо – она тут же смотрит на почерк: не похоронка ли пришла. Если почерк сына – значит, живой. Тогда она нюхала это письмо. Почему? Потому что ребята как часто поступали: лежит он в госпитале, уже без ноги, а матери пишет: мама, нашу роту перевели в другое место, мы отдыхаем… В общем, старается как-то оттянуть от матери это горе. А по запаху лекарства в письме мать могла догадаться, что сын в госпитале.
– Как вам при такой загруженности удаётся выкраивать время для занятия литературой?
– Дело в том, что я, наверное, так уже создан, что всё время должен работать. Даже в милиции, работая без выходных, я находил время писать. Прихожу на приём к начальнику, мне говорят: подождите немного в приёмной. Хорошо, достаю блокнотик и начинаю писать. Особенно любил блокнотики в клетку, потому что почерк плохой, так удобнее было писать. Я и сейчас в командировках никуда не хожу – я ведь весь мир уже видел. Вот приехал в Женеву и ни разу не прошёлся по городу. Вечер свободный – я в гостинице работаю над рукописью. Один, полная свобода.
– Вы верите в то, что белорусская литература когда-нибудь может всколыхнуть читательский мир, как, к примеру, сербская или японская?
– Я уверен, что белорусская литература имеет большое будущее. И мы, писатели, должны этому способствовать. Надо поощрять писательский труд, стараться, чтобы их произведения увидели свет. Мы ищем любые возможности для этого. Чем больше будет появляться новых произведений, тем быстрее появятся великие произведения. Чем больше у нас будет писателей, тем быстрее у нас появятся великие писатели.
Беседовал
