, ЯРОСЛАВЛЬ
Чуть более двадцати лет назад постмодернизм триумфально вошёл в русскую литературу. Девяностые годы были временем его расцвета. О нём спорили, за него давали премии и, самое главное, его пророков читали. Конечно, не все, особенно почвенники, принимали его и тогда. Но постмодернизм от этого только выигрывал. Направление, изначально рассчитанное на эпатаж, казалось, подпитывалось этими скандалами.
И вот – всё угасло. Давно уже постмодернизм не вызывает былых страстей, герои скандалов стали вполне респектабельными и уважаемыми авторами. Экранизация Generation P провалилась (хотя дело тут, конечно же, не только в литературе). Последние «безобразия», связанные с постмодернистскими произведениями, пришлись аккурат на начало «нулевых», когда «Идущие вместе» (тогда ещё не «Наши») сжигали книги всё тех же Пелевина и Сорокина. Но и тогда эти заварушки были уже не вполне литературными, и читающая публика смотрела на них, скорее, недоумённо – политика, как всегда, запаздывала.
Идеи множественности истин, «смерти автора», текстовой природы всего на свете более не популярны. Напротив, сейчас каждый уверен в своём монопольном обладании истиной. Героями нового времени стали предельно идеологизированные (каждый по-своему) и предельно реалистические авторы…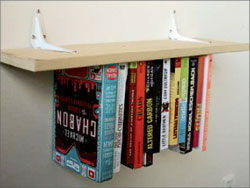 Уже сегодня Саша Соколов, говоря о современной русской прозе, задаётся вопросом «где же традиции авангарда, идеи постмодернизма?» («Зеркало», 2011, № 37, 38). Лев Данилкин в статье «Клудж» («Новый мир», 2010, № 1) всерьёз говорит о кризисе течения. При этом он, правда, отмечает, что «нулевые дали и несколько очень крупных образцов модернистской и постмодернистской прозы», но сама постановка такого вопроса показательна. Изменилась общая направленность российской литературы. «Тогда же – ровно десять лет назад, – пишет Л. Данилкин, – заявление персонажа романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила» о том, что «мы – лишь форма существования слов, язык является одновременно творцом и телом всего сущего», казалось таким же естественным, как «Волга впадает в Каспийское море»; однако чем больше проходит времени, тем более эпатажным оно представляется».
Уже сегодня Саша Соколов, говоря о современной русской прозе, задаётся вопросом «где же традиции авангарда, идеи постмодернизма?» («Зеркало», 2011, № 37, 38). Лев Данилкин в статье «Клудж» («Новый мир», 2010, № 1) всерьёз говорит о кризисе течения. При этом он, правда, отмечает, что «нулевые дали и несколько очень крупных образцов модернистской и постмодернистской прозы», но сама постановка такого вопроса показательна. Изменилась общая направленность российской литературы. «Тогда же – ровно десять лет назад, – пишет Л. Данилкин, – заявление персонажа романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила» о том, что «мы – лишь форма существования слов, язык является одновременно творцом и телом всего сущего», казалось таким же естественным, как «Волга впадает в Каспийское море»; однако чем больше проходит времени, тем более эпатажным оно представляется».
Но и сам Михаил Шишкин в последних интервью заявляет обратное: «Язык сам по себе – это ведь не реальность, а лишь способ проявления реального, «заязычного». Всему действительно важному (пониманию, любви, смерти) слова вовсе не нужны, наоборот, только мешают. Вот мы, реальные, отбрасываем тень – но разве тень может выразить нас?» («Эксперт», 2011, № 18).
Попробуем разобраться, что произошло.
Постмодерн был разрушителем. Разрушителем смысла и пафоса. В начале 90-х люди устали от официальной идеологии, от навязанных штампов и в значительной степени вообще от каких-либо высоких целей. Хотелось просто жить – для себя и своих близких. Постмодернизм, обессмысливающий всё и вся, идеально соответствовал этому настроению. В какой-то степени он был ядом, уничтожающим отжившие идеалы. А вместе с ними и не совсем отжившие.
Конечно, и сам постмодернизм – двойственное понятие. Если говорить серьёзно, постмодернисты не просто уничтожали государственную идеологию. Им было что сказать. Просто говорили они не в лоб, а исподволь. Исподволь, потому что напрямую было опасно или, что ещё хуже, бессмысленно – искренние чувства были скомпрометированы многолетним использованием в качестве идеологических лозунгов. Постмодернисты их не проговаривали. Заставляли догадываться о самом важном. Намекали, держа наготове спасительную иронию.
Теперь о том, почему это прошло.
Во-первых, прошла мода. Мода на всё западное у нас вообще редко бывает долговечной, быстро уступая место природной антипатии к Западу. Во-вторых, постмодернизм вполне естественно стал исчезать с исчезновением идеологии. Положение постмодернизма в конце восьмидесятых – начале девяностых было положением шута при венценосном монархе. Потом монарх, то есть государственная идеология, исчез, а шут остался. Параллельно в обществе в целом исчезли нравственные табу (на фоне которых так выигрышно смотрелся постмодернизм)… Стало просто нечего вышучивать. В ситуации, когда вся жизнь превратилась в бесконечную игру, постмодерн стал частью фона.
В-третьих, фоном он стал и в исключительно литературном смысле. Если в восьмидесятые писатель-постмодернист смотрелся как что-то новаторское, то уже в девяностые постмодернистом был каждый второй, вплоть до массовой литературы (проект «Борис Акунин»). Исчезла новизна восприятия. Да и писатели других школ освоили многие постмодернистские приёмы, чем стёрли границы между направлениями.
В-четвёртых, как мне кажется, повлияло и снижение общего уровня образования. Чтобы скрыто цитировать кого-то или понимать такие цитаты, для начала неплохо было бы этого самого кого-то прочитать. Сейчас постмодернизм очень многими воспринимается примерно так же, как когда-то воспринималось авангардное искусство некоторыми членами ЦК КПСС. То есть как бессмыслица и эпатаж. Тонкость и иронию современные читатели-блогеры вообще редко улавливают.
Но самое главное, я думаю, не в этом. Сейчас другое время. Время мучительного осознания большой страной самой себя. Перед страной, словно перед барышней на выданье, соперничают конкурирующие идеологии. Либеральная и новодержавная… А там, где конкурентная борьба, да ещё и в идеологической сфере, уже не до игр. Иносказания не работают. Сейчас и прямое-то высказывание в 90 процентах случаев будет понято превратно и истолковано в зависимости от политических взглядов читателя. Так что на передний план вышли краткость, внятность и умение нанести оппоненту удар побольнее.
Сегодня время больших идей, время публицистики и дискуссий в интернет-блогах, время пафоса. Литераторы стали предельно серьёзны. В литературном сообществе всё более популярны «новый реализм» и «новая искренность», а то и «новый консерватизм», но никак не постмодернизм.
Бывшие постмодернисты, к слову, активно участвуют в этой борьбе. Они, разумеется, либералы. Блоги Бориса Акунина и Льва Рубинштейна об этом свидетельствуют вполне ясно. А те писатели, чьи имена сегодня «на слуху», – они вообще представляют литературу, смешанную с публицистикой, а то и с активной политической и общественной деятельностью. Боюсь, такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока в нашем обществе не возникнет некое согласие насчёт основополагающих ценностей. И только тогда уже новые сомневающиеся вновь начнут отпускать намёки, понятные лишь своим, и прятаться за маской иронии.

 Сергей БАТАЛОВ
Сергей БАТАЛОВ