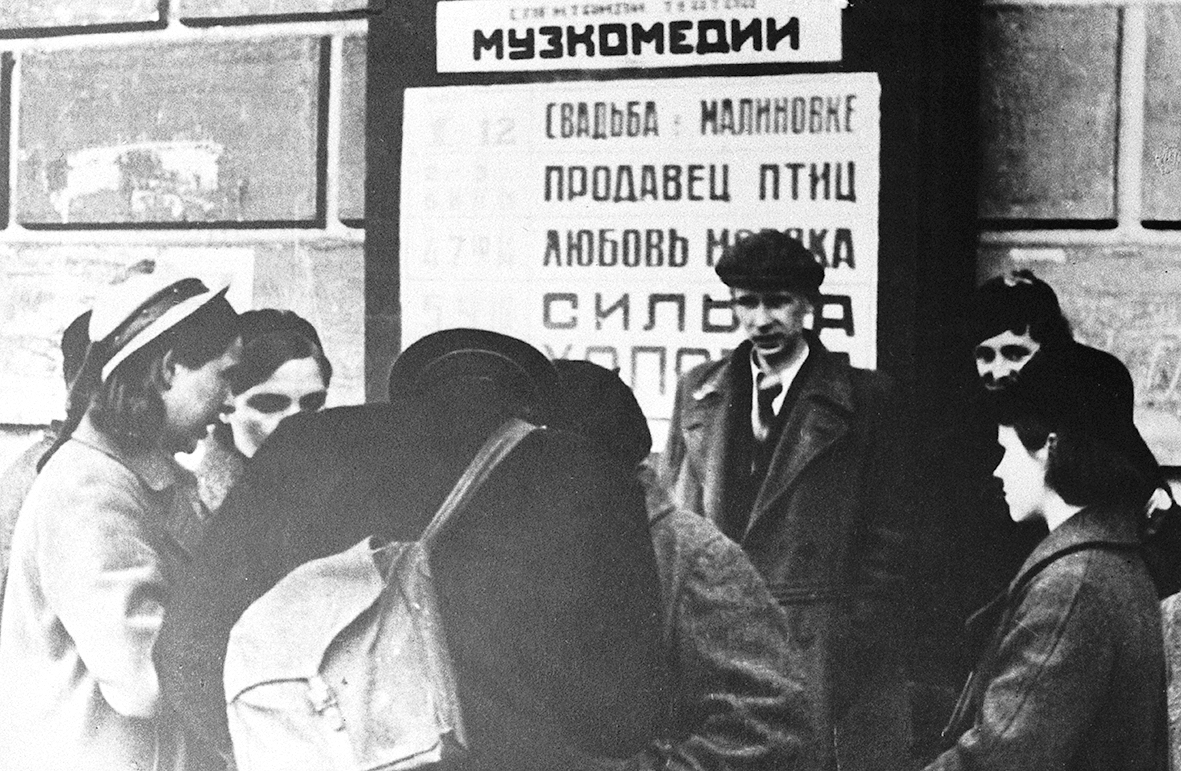Николай Петров
«Искусство под обстрелами» – такое название носит замечательный сборник, составленный на основе дневников, воспоминаний, стенограмм выступлений деятелей культуры блокадного Ленинграда 1941–1944 гг. Книга относительно молода, выпустил её Военный музей Карельского перешейка, посвятив издание памяти деятелей культуры, искусства и артистов осаждённого города. Они своим творчеством, как отмечается в предисловии, активно участвовали в обороне Ленинграда от ненавистного врага. Не только давали спектакли и многочисленные концерты, проводили выставки в, казалось бы, невозможных условиях, но и сумели создать произведения искусства, ставшие классикой…
Иван Нечаев, оперный певец, незадолго до войны был приглашён в Ленинградский театр оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне снова – Мариинский), а во время блокады стал художественным руководителем его оперы. Он вспоминал:
«Во время второго действия начался артиллерийский обстрел района. В музыку Чайковского врывался вой и свист снарядов, близкие взрывы. Под куполом театра покачивалась массивная люстра, в паузах тихо звенели подвески.
«Что день грядущий мне готовит?..» – пел я, и в это время снаряд лег где-то у самого театра. Стены тряхнуло. Жалобно и быстро заговорили подвески на люстре.
«…Паду ли я, стрелой пронзённый, иль мимо пролетит она?..» – продолжал я и украдкой смотрел в зал.
Там никто не вздрогнул, не выказал испуга. Худенькая девочка-подросток в сером платке, что сидела у прохода второго ряда, плотней запахнулась в пальто, спокойная и внимательная.
Что это? Презрение к смерти? Вызов врагу? Или образы Пушкина и Чайковского оказались сильнее снарядов, нёсших гибель?
Так думал я – и вдруг физически ощутил силу и мужество всех этих людей, заполнивших зал. Для нас, исполнителей, то была самая волнующая из всех наших премьер».
«Вдруг потемнело в глазах…»
Солистка балета Театра оперы и балета им. С.М. Кирова Наталия Сосновская осталась в блокадном Ленинграде с мужем и семьёй. Вместе с мужем она в составе фронтовых артистических бригад неоднократно выезжала на передовую с балетными номерами, выступала перед рабочими заводов.
4 июля она записывает в своём блокадном дневнике: «Выступаем на Кировском заводе, большой концертной бригадой приехали мы к ним. Огромная территория, кругом воронки, некоторые цеха разбиты. Это главный объект города Ленинграда, форпост труда на оборону. Враг стремится его уничтожить, снаряды летят день и ночь… Но завод работает… Истощённые, под огнем обстрелов рабочие трудятся по две смены. В моменты наивысшей опасности директор приказывает прекратить работу и спуститься в бомбоубежище, а ему отвечают: «Нельзя, товарищ директор, сталь идёт… сталь идёт, принимать надо, иначе пропадёт ценный материал». И принимали сталь, несмотря на бомбёжку и гибель рядом стоящих товарищей. В один из дней прямым попаданием в цех были убиты разом семь человек, высокой квалификации сталевары. Люди дороже, чем сталь, но такова рабочая честь… Обидно до боли, что мне не удалось дотанцевать в четвёртый раз, изменили силы. Было такое приподнятое настроение, и начали мы танец с полной отдачей, и главное – почти в конце вдруг потемнело в глазах, и… Роберт не дал мне упасть, ловко подхватил и унёс со сцены. Но несмотря на усталость, мы получили моральную зарядку. Победа неизбежна».
Как и остальным жителям блокадного Ленинграда, Наталии Сосновской пришлось в полной мере испытать все ужасы осаждённого города, смерть близких людей. Вот как она рассказывает о драматических поисках в морге Верочки Полуниной, сестры её друга Марианны Полуниной.
«Меня послали в морг, указали дверь в подвальное помещение. Я вошла и… ударил в нос едкий смрад… отпрянула назад, стало дурно… Но что делать? Заставила себя войти снова. Ужас… словами не передать, надо видеть. Сваленные в кучу до потолка трупы-скелеты, обтянутые серой кожей, с открытыми глазами, кричащими ртами, дыбом всклокоченные волосы… страшное зрелище так и стоит в глазах. Сколько кроется здесь муки, какая мера страданий… Слезы застилали глаза, я выскочила в отчаянии. Как я найду Веру в такой свалке? Хотела кого-нибудь позвать, увидела дверь в здание, вошла поспешно, очевидно в анатомичку, и… на столе лежала покойная Вера…
Несколько дней ушли на формальности, потом захоронили на том же Смоленском кладбище в могилу прародителей. Несмотря на горе, мы не рыдали, скорбно бродили вокруг, пока готовилась могила. Щипали и ели травку, а молодую крапиву собирали в карман на суп. С удивлением взглянула я на себя как бы со стороны – изменила нас блокада, притупилось что-то внутри, нет сил вместить все невзгоды и горе».
Ария на танке
Артистка балета Владислава Меркулова в своих воспоминаниях пишет, как артисты выступали перед бойцами воинских частей: «Народный артист П.З. Андреев никогда не отказывался от концертов. Рискуя потерять голос, он пел под открытым небом и в самые лютые морозы, и в дождь. Почти все свои выступления он заканчивал арией Игоря из оперы Бородина «Князь Игорь».
Однажды мы выступали в 67 й армии. День был солнечный, концерт проходил на воздухе. Эстрадой нам служил кузов грузовой машины… Не успели объявить его номер, как несколько солдат подхватили Павла Захаровича на руки и поставили его на танк, который находился рядом с нашей «эстрадой».
Это было неповторимое зрелище. Неподалёку слышались разрывы снарядов, грохот орудий, а Павел Захарович стоял с поднятой головой на танке и пел:
О дайте, дайте мне свободу!
Я свой позор сумею искупить.
Спасу я честь свою и славу,
Я Русь от недруга спасу.
Трудности подорвали здоровье Павла Захаровича. Он очень похудел, стал настоящим дистрофиком. Ему не раз предлагали эвакуироваться, но он категорически отказывался».
«Сколько задора было!»
Остался работать в блокадном городе и известный советский скульптор-монументалист Вениамин Пинчук. Несмотря на голод и холод, он продолжал делать скульптуры.
«Помню, – рассказал он, – я, работая над скульптурой, сидел в пальто. Температура была -7, но работал я с ожесточением, с остервенением! Поскольку мы жили вместе, я должен был подавать пример другим, и это придавало силы».
Делал он и плакаты: «Убей немца!» В составе бригады создавал для города панно: «Смерть немецким оккупантам», «За нами город Ленина – колыбель Октября», «Всё ли ты сделал для помощи фронту?», «Тыл фронту» и другие монументальные работы.
Вспоминает Пинчук, как вместе с другими художниками отмечал новый, 1942 год. «Тогда Ленсовет отпустил для художников тушу конскую. Мы нажарили котлет, оставили к вечеру свой хлеб и добились того, что у нас было впечатление сытости. А наутро настроение омрачилось: в соседней комнате умер художник Герец, у Серебряного в этот день украли хлебные карточки, а что это значило тогда!!!»
«Интересно, – вспоминает он, – что по мере усугубления трудностей зимой 1941–1942 года у нас рос энтузиазм. Я недавно нашёл свои записи по приготовлению к выступлению на собрании интеллигенции города Ленина, которое было в Капелле. Собрание это было замечательно. Электричества не было, холод был страшный, помещение было совершенно не топленное, сидели все закутанные в зимних пальто, шубах, кто в чём одетый. Собрание проходило под непрерывный шум стучащих от холода ног. Все сидели в шапках, единственным, у кого была обнажена голова, был Всеволод Вишневский, на которого тогда все смотрели как на сумасшедшего, говорили, что он может получить воспаление лёгких… Но вот недавно, просматривая подготовленное мною тогда выступление, я сам удивился, насколько оптимистическое настроение тогда ещё было, сколько задора было!..»
Эпиграфом к этому сборнику могли бы послужить приведённые на его страницах слова выдающейся артистки балета Ольги Иордан, солистки Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова: «Страшный, суровый урок дала мне на всю жизнь война. Но она научила ценить и сознательно любить нашу великую Родину, её замечательных людей, грудью своей отстоявших её независимость, те великие идеи, которые способны вдохновлять на величайшие подвиги, и свято верить в конечное торжество правды и справедливости».