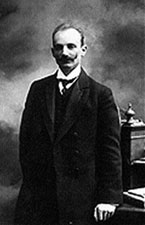Отрывок из новой книги
Мы были молоды, легкомысленны и свободны. На дворе стоял 1960 год, очередной год хрущёвской оттепели. Приятель мой, Виктор Буханов, сотрудник партийной газеты, узнал, что Шульгина ещё в 1956 году выпустили из Владимирского централа. Увидеть Шульгина! Того самого, кто принимал отречение у последнего русского государя и книжками которого «Дни», «1920», «Три столицы» я зачитывался…
И вот, переночевав во владимирской гостинице, мы отправились в дом престарелых, где, по сведениям приятеля, находился Шульгин с приехавшей к нему из-за границы женой Марией Дмитриевной.
Попали мы прямо к завтраку: обитатели спешили с алюминиевыми кружечками в столовую под огромной репродукцией: «В.И. Ленин выступает на Третьем съезде ВЛКСМ». Запомнился худой, в чёрном монашеском одеянии и скуфейке старик, который вёз на коляске старуху с брёвноподобными ногами, крича: «Пади! Пади! Княгиня едет!»
Появился администратор, повертел удостоверение приятеля и рассказал, что Шульгин в самом деле жил здесь, но недавно получил квартиру на улице Кооперативная, дом 1. «Я там только что не дралась», – скажет нам позднее о покинутой богадельне Мария Дмитриевна. «А Василий Витальевич?» – «Он вёл себя, словно святой…»
Нам отворила дверь маленькая, живая и очень моложавая женщина, и мы оказались в прихожей однокомнатной квартирки. Было слышно, как в комнате кто-то быстро возится, и очень скоро появляется старый, но вовсе не дряхлый в свои восемьдесят два года Шульгин – в новом чёрном суконном костюме и при галстуке. У него сквозящая розовой кожей борода, большой беззубый рот, а глаза, очень близко посаженные, были по-птичьи без ресниц – быстрые и зоркие. А вообще в лице его, в форме головы, – что отмечали и те, кто встречал Шульгина раньше, – проступало нечто лягушачье, от большой лягушки.
Нас провели в комнату, усадили за стол, и, право же, этот день был совершенно необыкновенным, так интересен, остроумен и молод памятью оказался знаменитый собеседник.
– Я не только верю, что т о т мир существует. Я знаю это, – заметил он между прочим и добавил, что всё началось с одного трагического эпизода.
Спасаясь от большевиков, Шульгин оставил в России, в пулемётной команде Марковского полка, своего сына Вениамина – Лялю.
– Я не знал, что с ним, и обратился в Париже к одной ясновидящей даме, – говорил Шульгин. – Но я предупредил её, что хочу проверить её силу. И попросил описать внешность одной моей незадолго до того скончавшейся родственницы.
Она пользовалась шаром, который освещался особым образом. И вот когда колдунья принялась подробно рассказывать, как выглядит эта женщина, мои сомнения пропали. Мне стало жутковато.
– Откуда вы всё это знаете? – спросил я.
– Она сейчас стоит за вашим левым плечом.
Я обернулся. Никого не было.
– Теперь я вам верю, – сказал я и повторил свою просьбу.
– Это слишком страшно, – отвечала она через некоторое время.
– Страшно? Но я отец, а не мать и выдержу всё, – ответил я.
И тогда она, глядя в шар, начала говорить, что мой Ляля находится в одном из сумасшедших домов на юге России. Почему я не догадался тогда подробно расспросить её, как выглядел этот город, начиная с вокзала и кончая той улицей, где был этот жёлтый дом! Тогда бы я нашёл Лялю. Ведь и моя тайная поездка в Россию в 1925 году во многом питалась надеждой, что я отыщу сына. Я побывал в Киеве, Москве и Питере, а потом описал это в книге «Три столицы». Кстати, в Киеве, загримированный, я смотрел спектакль по роману Михаила Козакова «Падение империи», где играл актёр, загримированный под меня…
Шульгин рассказывал так легко и свободно, как будто всё это происходило вчера.
– И вот недавно, – продолжал он, – я с помощью Хрущёва получил возможность поездить по Украине. И представьте, в Виннице в сумасшедшем доме я нашёл следы моего Ляли… Он скончался там… Так через много лет я получил подтверждение давнему прорицанию…
Здесь грустная тема закончилась, и Шульгин вспомнил свою юность, учёбу в Киевском университете Святого Владимира, поездку на Волынь, в Гощу.
– Мой отчим, редактор газеты «Киевлянин» Пихно, очень поддерживал моё увлечение историей Руси. И к окончанию учёбы в университете приготовил мне воистину царский подарок: купил мне у какого-то разорившегося волынского помещика в городе Гоща большую библиотеку исторических раритетов. Я отправился по Волыни на лодке. Путешествие было романтическим. Правда, меня арестовали жандармы, приняв за австрийского шпиона, но вовремя помог отчим.
И вот я в Гоще, в большом обветшалом доме местного помещика. Оказалось, что в его библиотеке подобрано множество книг по Смутному времени, а в комнатах развешаны портреты Лжедмитрия. Хозяин демонстрирует хорошо проверенный трюк. Он кричит прислуживающему мальчику: «Митька! Стань под портретом!» И тот подбегает к одному из изображений Лжедмитрия. Поразительное сходство!..
Вы. Конечно, знаете, – продолжал Шульгин, – какое предание связано с Гощей. Там находился монастырь, где обосновались социане – христианская секта, довольно терпимая к иномыслящим. И будто бы однажды в этот монастырь пришёл старик с маленьким мальчиком. Когда старик умирал, то открыл своему воспитаннику, что тот – царевич Димитрий, чудом спасшийся от смерти. Ну. А служка хозяина – будто бы потомок царевича, согрешившего с кем-то из гощианок…
И я тогда же решил, – рассказывал Василий Витальевич, – что обязательно напишу исторический роман – нет, серию романов. В них герой, который проживёт сто лет, как проживу и я, будет участвовать в событиях 1612 года. И там я расскажу, что самозванец на самом деле был царевичем…
– Такой роман уже написан, – осторожно возразил я. – Его автор – Зиновий Давыдов. И называется он «Из Гощи гость»…
Шульгин несколько огорчился.
– Вы можете мне его добыть и прислать? Обещаете? Хорошо. Так вот, я зарылся в исторические материалы и начал издалека – с потомков князя Курбского. И даже придумал фамилию герою – Воронецкий. Князь Воронецкий. Представьте, потом я нашёл документы, подтверждающие, что такой князь действительно существовал. Ещё в Киеве я написал и опубликовал первый роман: «Приключения князя Воронецкого в стране свобод».
Я переиздал этот роман в 1930 году в Белграде, – говорил Шульгин. – И тотчас же принялся за продолжение: «Приключения князя Воронецкого в стране неволи». Он вышел в Париже в 1934 году. В нём Воронецкий путешествует по Турции и нынешней Югославии в поисках своей любимой – Мариши, проданной в рабство. Следующий роман – «Приключения князя Воронецкого в стране поэзии» – остался в рукописи. Как и весь мой архив, он был взят советскими органами безопасности в Сербии…
Добавлю, что несколько лет назад архив Шульгина был передан Институту мировой литературы. Есть в нём и рукопись продолжения приключений князя Воронецкого, и другие работы – вплоть до машинописи на 553 страницы «Опыт Ленина»…
Вернувшись в Москву, я первым делом отыскал интересовавший Шульгина роман «Из Гощи гость». Узнав, в чём дело, мне отдала добрая знакомая библиотечный экземпляр. И, приложив к нему маленький сборничек рассказов Бунина с моим предисловием, я отослал бандероль во Владимир.
Каково же было моё удивление, когда недели через три я получил большое письмо от Шульгина, начинавшееся фразой: «Жду-пожду, а гостя из Гощи всё нет да нет…» В этом без преувеличения замечательном письме, сохранившемся лишь во фрагментах, Шульгин говорит о своих литературных пристрастиях, неожиданно сближая таких совершенно разноформатных писателей, как поэт А.К. Толстой, романист для юношества Жюль Верн и… Достоевский.
«А ещё я люблю Достоевского, – писал Василий Витальевич. – Это был очень русский человек. Правда, была в нём и польская кровь. Так поляков он ненавидел совершенно по-польски. А также некоторых других иностранцев. Вы скажете, какая связь у Достоевского с Жюль Верном? Отвечу. Оба были путешественниками. Вам покажется это неправдой. Но это обман зрения. Только у Достоевского было путешествие души». Заключалось письмо словами: «Вот вы ждали от меня исповеди, а получили жабью икру…»
Только позднее я догадался, отчего «гость из Гощи» не добрался до адресата. На обложке бунинской книжки я второпях записал телефон встреченного на улице Горького знакомого. И бдительные опекуны Шульгина решили, что в этих цифрах закодировано нечто секретное.
Как известно, в 1925–1926 годах Шульгин попал в ловушку большевистских спецслужб, поверив в существование в России подпольной антисоветской организации «Монархическое объединение России», или «Трест». Чекисты позволили ему благополучно вернуться за рубеж, меж тем как все посещаемые им явки оказались в результате проваленными, а написанную Шульгиным книгу «Три столицы» редактировал в Москве высокопоставленный работник ОГПУ–НКВД А.Х. Артузов (расстрелянный во время сталинских чисток)…
Убеждённый монархист и последовательный сторонник П.А. Столыпина, Шульгин был бы очень огорчён, увидев свою фотографию среди видных российских либералов (куда поместила его редакция газеты «Вехи» в подборке «Либерализм и либеральность»). В Государственной Думе он неизменно занимал место на правых скамьях. Его честность и последовательность вызывали уважение даже у самых непримиримых политических противников. Недаром советский журналист Давид Заславский (кстати, как и Шульгин, выходец из Волыни) назвал свой памфлет «Рыцарь монархии В.В. Шульгин».
Главной силой, подтачивающей дореволюционную Россию и трон, Шульгин считал как раз либералов, и прежде всего партию Народной свободы (кадеты).
В 1964 году, когда я готовил книгу юмористических рассказов Арк. Аверченко, мне понадобилась справка о кадете А.М. Колюбакине, который привлекался к уголовной ответственности за речь, произнесённую в августе 1906 года в Саратове. Я попросил Шульгина рассказать о Колюбакине, событиях первой русской революции и последовавшего политического кризиса, когда в 1906 году либералы-депутаты Государственной Думы (имевшие в ней большинство) открыто выступили против правительства. Уже тогда Шульгину был ясен разрушительный характер политической оппозиции в России. Откликаясь на мою просьбу, он отвечал 11 апреля 1964 года:
«Многоуважаемый Олег Николаевич.
Я очень хорошо помню ваше и вашего друга посещение и сожалею, что связь с вами порвалась и что книга «Из Гощи гость» где-то затерялась. Однако я получил её из другого источника и некоторые данные, которые приводит Давыдов, интересны для меня.
Теперь о Колюбакине. Колюбакин был членом 1 Государственной Думы. О том, что он пострадал за какую-то речь, я ничего не слышал, и это маловероятно. Впрочем, если и было что-нибудь, то малодраматическое, принимая во внимание, что в то время расправлялись сурово только с террористами. Во всяком случае, о каком-либо лишении неприкосновенности не может быть речи по той простой причине, что 1 Госуд(арственная) Дума была распущена в июле 1906 года, а значит, с этого дня Колюбакин перестал быть членом Госуд(арственной) Думы и лишился неприкосновенности, так сказать, автоматически. Поэтому лишения неприкосновенности в 1909 г. не могло быть, ибо таковой уже не было. Однако вот что могло быть.
После роспуска Госуд(арственной) Думы в июле 1906 года многие депутаты немедленно отправились в Финляндию, в г. Выборг. Почему они поехали в Финляндию? Потому что, хотя Финляндия входила в состав государства Российского, но на особых правах. Полномочия русской полиции, которая могла прекратить преступное сборище бывших членов Госуд(арственной) Думы, на Финляндскую территорию не простирались. Вышеупомянутые бывшие депутаты воспользовались этим, в том числе и бывшие кадеты, и выпустили так называемое «выборгское воззвание», кот(орое) в насмешку было названо выборгским кренделем, т.к. именно кренделями был известен г. Выборг.
«Выборгское воззвание» представляло из себя революционную прокламацию, в кот(орой) население Российской империи призывалось не платить налогов и не давать государству рекрутов. В настоящее время за такое выступление подписавшие оное подверглись бы суровой каре. Но тогда было иначе. Выборжцы были осуждены на 3 мес(яца) тюрьмы. В числе их мог быть и Колюбакин. Но утверждать это не могу. Он был офицером и в 1915 г. погиб на фронте, так, по крайней мере, говорили о нём кадеты в 4 Государственной Думе.
Вот и всё, что я могу вспомнить о Колюбакине».
Письмо было написано уже рукой Марии Дмитриевны. И лишь в конце шла размашистая строка:
«Шлю вам привет. В. Шульгин».
Шульгин остался таким же непримиримым противником «либералов». С первых же своих выступлений в Думе он заслужил в глазах «левых» репутацию «погромщика» и «психопата». Их раздражала сама его манера говорить: он никогда не терял самообладания и невозмутимо и язвительно осуждал русских республиканцев. Шульгин ясно отдавал себе отчёт, что столыпинские реформы, и прежде всего аграрная, вызывали не только яростное сопротивление левых сил, но одновременно тормозились и крайне правыми, считавшими председателя Совета министров «скрытым революционером». И не так уж парадоксально предположение, что крайности, которые, как говорят, сходятся, совместились и в этом случае, чтобы уничтожить Столыпина. После этого, как полагал Шульгин, Россия неотвратимо двигалась к пропасти.
Подобно своему младшему земляку М.А. Булгакову, Шульгин считал, что жил в русском городе Киеве, а население, преобладающее в юго-западном крае, неизменно именовал «южно-русским народом», который сначала поляки, а потом немцы называли «украинцами». Он был убеждён, что жители юго-запада империи «имеют право на «русскость» полнейшее, ибо слово «Русь» преимущественно связано с Киевом. «Разумеется, – утверждал Шульгин, – я отметаю все «украинские» россказни как лживый вздор, который в своё время будет ликвидирован проснувшейся гордостью южно-русского населения. Оно не позволит, чтобы его обманывали, как малого ребёнка. Русским народом я считаю великороссов, малороссиян и белорусов, а также и всех тех иных кровей российских граждан, которые подверглись процессу ассимиляции и считают себя русскими».
В 1922 году в Софии вышла маленькая книжка Шульгина «Нечто фантастическое» – расчёт с прошлым и размышления о будущем. Словно всё это написано сегодня – на обломках империи выросли самостоятельные государства, префекты выполняют (или не выполняют) приказы из ослабевшего «центра». Россия отделена от своих сопредельных народов: образовались «Великая Литва» и «Великая Латвия», «Колоссальная Грузия», «Исполинский Азербайджан» и «Ни с чем несоизмеримая Армения».
«Всем им, – писал Шульгин, – желаю благоденственного и мирного жития и во всём благого поспешения, на враги же победы и одоления».
– Вы не думаете, что России следует вступить с ними в федерацию?
– А вот это уж – нет. Это – нет!.. В федерацию с этими державами России вступать негоже.
– Но почему?..
– А то, что когда Грузия при императоре Александре I попросилась в Россию – никакой федерации не было и в помине…
– И вы предлагаете ждать, чтобы они попросились?..
– Так точно…
– И если попросятся?
– Тогда вместо федераций пожаловать их «широкой автономией», проведённой для порядка через Государственную Думу, которая, надеюсь, к тому времени соберётся».
…Василий Витальевич Шульгин, блестящий публицист, занимательный писатель («В фильме «Перед судом истории» мне пришлось придумывать диалоги с моим оппонентом – большевиком Петровым, который оказался очень глупым», – рассказывал он нам при встрече), был чрезвычайно добрым русским человеком. Он не озлобился даже на ту коммунистическую Россию, которая так несправедливо обошлась с ним.
«Мир производит опыт коммунизма, – писал Шульгин в 1958 году в своей неизданной работе «Опыт Ленина». – Сначала для этого была отведена территория России, потом Китая и других. Это наши мировые опытные поля. Будем же разумными агрономами и дадим директорам опытных полей закончить опыты. Если опыты будут удачными, мы воспользуемся ими. Если неудачны, то больше не будем тревожить несбыточным».
Теперь другие директора производят над Россией новые опыты. Жаль, что Василий Витальевич не может дать этим «разумным агрономам» свою оценку. Ведь его предсказания сбывались. И даже в обещании прожить сто лет он допустил лишь малую неточность.
В.В. Шульгин скончался во Владимире 15 февраля 1976 года на 99-м году жизни.

Василий Витальевич Шульгин с женой Марией Дмитриевной