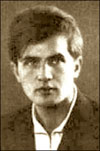 К 90-летию Сергея Наровчатова телеканал «Культура» показал посвящённый ему фильм «Семафор на пути». Название поначалу насторожило: а не дадут ли нам передачу не о поэте, а о литературном начальнике, возвышавшемся над творческими рельсами и дававшем зелёный свет угодливой зелёной бездари, а красный – отступникам от красной веры. Такой подход ныне моден. Однако беспокойство не оправдалось. В фильме, снятом пять лет назад, к предыдущему юбилею, Сергей Наровчатов предстал как большой поэт, сумевший вместе со своими друзьями, тоже изведавшими фронтовой каши – Давидом Самойловым, Борисом Слуцким и Михаилом Лукониным, – дать высокие образцы военной поэзии, в которых, как свойственно и самой войне, сочетались боль утрат и радость побед. Пожалуй, лучшего фильма о Сергее Наровчатове уже не снять, потому что к участию в этом были привлечены и его дочь Ольга, и во многих отношениях разные, но одинаково уважительно относящиеся к Сергею Наровчатову поэты Лариса Васильева, Евгений Евтушенко и Андрей Дементьев. Не хватало, пожалуй, ещё только Наума Коржавина, при всём своём инакомыслии считавшего Сергея Наровчатова одним из лучших поэтов ХХ века, и прозаика Даниила Гранина – он мог бы рассказать, как боролся Сергей Наровчатов с цензурой, не пущавшей в редактируемый им «Новый мир» честную «Блокадную книгу».
К 90-летию Сергея Наровчатова телеканал «Культура» показал посвящённый ему фильм «Семафор на пути». Название поначалу насторожило: а не дадут ли нам передачу не о поэте, а о литературном начальнике, возвышавшемся над творческими рельсами и дававшем зелёный свет угодливой зелёной бездари, а красный – отступникам от красной веры. Такой подход ныне моден. Однако беспокойство не оправдалось. В фильме, снятом пять лет назад, к предыдущему юбилею, Сергей Наровчатов предстал как большой поэт, сумевший вместе со своими друзьями, тоже изведавшими фронтовой каши – Давидом Самойловым, Борисом Слуцким и Михаилом Лукониным, – дать высокие образцы военной поэзии, в которых, как свойственно и самой войне, сочетались боль утрат и радость побед. Пожалуй, лучшего фильма о Сергее Наровчатове уже не снять, потому что к участию в этом были привлечены и его дочь Ольга, и во многих отношениях разные, но одинаково уважительно относящиеся к Сергею Наровчатову поэты Лариса Васильева, Евгений Евтушенко и Андрей Дементьев. Не хватало, пожалуй, ещё только Наума Коржавина, при всём своём инакомыслии считавшего Сергея Наровчатова одним из лучших поэтов ХХ века, и прозаика Даниила Гранина – он мог бы рассказать, как боролся Сергей Наровчатов с цензурой, не пущавшей в редактируемый им «Новый мир» честную «Блокадную книгу».
Конечно, Сергея Наровчатова как литературного начальника есть за что упрекнуть, как и всякого начальника. Но упрёки эти никогда не исходили от тех поэтов, которые прошли, как и он, войну, а тем более две – финскую и Отечественную. А что такое была финская, лучше других сказал пока по достоинству не оценённый ярославский поэт Павел Голосов, провожавший на неё Сергея Наровчатова:
Мы провожали их так радостно –
Оглох от хохота вокзал,
А им мороз сорокаградусный
Ступни в окопах отгрызал.
И после других таких же мощных строк – две завершающие:
А то ещё и не война была –
Лишь репетиция войны.
Голосов по возрасту попал только уже на трагическое действо, а Наровчатов, вернувшись с «репетиции» с обмороженными ногами, пошёл добровольцем на вторую, большую войну.
Сын репрессированного, за которым жена вместе с ребёнком последовала на Колыму, Наровчатов, не погрузился, как некоторые другие, оказавшиеся в сходном с ним положении, в противостояние строю, а пытался всю жизнь философски доискаться тех истоков, которые позволили этому строю победить в жесточайшем ратном испытании. Конечно же, у него были большие сомнения по поводу справедливости многого, что происходило потом, в те годы, когда ему приходилось быть литературным начальником, и он в некоторые сложные моменты предпочитал уходить в тину, сознавая, что это не избавит от ответственности, и страдая от этого. Может, потому он, как рассказала в фильме Лариса Васильева, самыми счастливыми годами в своей жизни считал тяжёлые военные, когда понятия «свой» и «чужой» не предполагали сомнений.
О более поздних годах он сказал в своём преувеличенно исповедальном стихотворении, включённом Евгением Евтушенко в «Строфы века»:
Много злата получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл,
Мало дал я Дьяволу и Богу,
Слишком много Кесарю отдал.
Потому что зло и окаянно
Я сумы страшился и тюрьмы,
Откровенье помня Иоанна,
Жил я по Евангелью Фомы.
Но как тут не вспомнить строки Ильи Эренбурга, написанные в том же 1958 году: «Может, был Фома тяжелодумом, но, подумав, он за дело брался, говорил лишь только то, что думал, и от слов своих не отступался».
Не потому ли была кем-то пародийно сочинена фамилия Нравоучатов?..
О всяких значительных людях любят рассказывать байки. Не обошли и Сергея Наровчатова. Я бы не стал об этом вспоминать, но… Моему однокашнику по филфаку ЛГУ Сергею Довлатову так нравилась моя фамилия, что он присвоил её аж двум персонажам своих произведений. Один, «грузинский писатель Кемоклидзе» в байке из «Соло на ундервуде», присутствуя в Тбилиси на собрании, где Наровчатов ратовал за необходимость оптимизма в советской литературе, говорит ему всякие гадости, называя его старым уродливым оптимистом в отличие от молодого и красивого пессимиста Байрона. Всё это, разумеется, плод фантазии Довлатова: к возрасту на Кавказе относятся с почтением, а что до внешности, то Наровчатов по красоте мог в молодости поспорить с Байроном. Поскольку никакие другие писатели с фамилией Кемоклидзе нигде не фигурируют, довлатовская байка непременно всплывает в Интернете присоединённой к сведениям обо мне. Однако я никогда, к сожалению, не видел Наровчатова, а если бы увидел, то выразил бы к нему своё почтительное отношение.
Рассказывают, Наровчатов любил повторять слова Леонида Соболева, что партия дала писателям всё, отняв только одно: право писать плохо. Это, конечно, спорное высказывание, но то, что сейчас у писателей отнято всё, но зато предоставлено право писать плохо, – это бесспорно. И когда читаешь наровчатовское «Что ни главнее, ни важнее / Я не увижу в сотню лет, / Чем эта мокрая траншея, / Чем этот серенький рассвет», легко догадываешься: вряд ли он отступился бы от этих слов, дожив до нынешнего серенького рассвета будущей счастливой жизни.
, ЯРОСЛАВЛЬ
Код для вставки в блог или livejournal.com:
 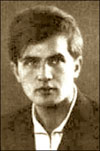
Он не Байрон, он другойК 90-летию Сергея Наровчатова телеканал «Культура» показал посвящённый ему фильм «Семафор на пути». |
| КОД ССЫЛКИ: |
