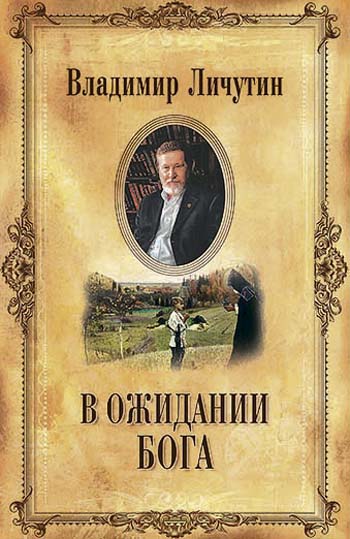
Имя Владимира Личутина − писателя, до сих пор покоряющего нас самобытным языком и редким даром открывать чудесное в обыденности мира сего, − стало известным широкому читателю ещё в 1970-х. Прошло полвека, и мы явились свидетелями мощного взлёта этого недюжинного прозаика, не побоявшегося обратиться к сложнейшим социоисторическим пластам стремительно меняющейся действительности: судьбы России на протяжении четырёх веков – от раскола XVII века до нынешних расколов во времена «катастройки», ельцинского реформирования… Однако взлёт этот в силу утраты литературой статуса властительницы дум прошёл почти незамеченным. Получился парадокс: мастер стал писать несравненно лучше, освоил романные формы, а должного признания не получил.
Восполнить этот пробел и призвано полное собрание сочинений (в 14 томах) Владимира Личутина, выпуск которого в 2015 году начало издательство «Вече». Научное руководство изданием осуществляет литературоведческая редколлегия в составе: А.Ю. Большакова (гл. редактор), М.М. Голубков, А.А. Дырдин, О.А. Платонов, Ю.М. Поляков, В.К. Сигов, В.П. Смирнов. За три года вышло уже 10 томов, куда вошёл основной корпус художественных произведений 1970–2010-х годов: «Поморские хроники», исторические романы «Скитальцы» и «Раскол», романы о современности «Любостай», «Миледи Ротман», «Беглец из рая», «В ожидании Бога», повести «Домашний философ», «Река любви», а также книга размышлений о русском народе «Душа неизъяснимая». Готовятся к изданию три тома публицистики и новая биографическая книга о А. Чапыгине.
Основной сюжет «Поморских хроник», благодаря которым Личутин завоевал сердца российских читателей ещё в прошлом веке, – борьба за выживание. Жители Крайнего Севера, охотники и рыболовы, живут по своим первобытным законам в суровом мире, где «кругом, на десятки вёрст, куда достанет взор человеческий, − льды, беспросветная ночь, глушь, стынь…». Своеобычно представлены изменения национальной личности в ХХ веке: уход в себя, рождение анти-«я». Эта тенденция получит развитие в 80-х в «Любостае», где писатель отходит от региональной специфики и обращается к предперестроечным умонастроениям столичной интеллигенции, и в романах о цивилизационном сломе в России на рубеже ХХ−ХХI веков.
Один из них – роман «Беглец из рая». Время действия – переход от ельцинского к путинскому правлению, хотя политика дана лишь телевизионным фоном и через рефлексию главного героя: бывшего советника президента, профессора психологии Павла Хромушина.
Разочарование реформатора в плодах собственных усилий − последствия демнигилизма, безжалостно разрушившего прежнюю систему в попытке создать иную, подлаженную под нужды новых властей. Но возникшая в результате химера − лишь звено в общей цепи исторических сбоев, которые изучает отошедший от дел профессор. Жизненный итог его − отказ от изменения системы ради изменения человека: ведь реформаторство привело к катастрофическому расслоению «гомо советикуса» на «новых русских» и «новых нищих». Исток нынешних российских неудач усматривается в прошлом стремительно раскрестьянившейся в ХХ веке, подавившей своё органическое развитие страны. И в этом автор целиком солидарен со своим героем.
В романах В. Личутина «Раскол», «Скитальцы», «Миледи Ротман», «Беглец из рая», «В ожидании Бога» усиливается напряжение между такими искони противоборствующими в мировой литературе архетипами, как: Раскол и Мир, Город и Деревня, Бегство и Вечное возвращение, Воля и Неволя.
От ХVII до ХХI века прочерчивается в творчестве Личутина единая линия Раскола, исток которого – кризис Веры и отторжение её прежнего образа в русском Средневековье, что вызвало последующие расколы нации и в 1917 г., и в 1991–1993 гг. Человек покушается на традицию, веру, образ жизни предков и разрывает жизненную цепь, опрокидывает миропорядок. Об этом роман «Миледи Ротман», об утрате национальной идентичности в период перестройки и кризисных 1990-х, и «Беглец из рая», где, как и в «Расколе», показано, что после государственной смуты наступает «смута на сердце», и новый роман Личутина «В ожидании Бога» (2017) о судьбах творческой интеллигенции на историческом сломе 1970–1990-х. В результате воцаряется всеобщий хаос, метания людские, непонимание ни исторической ситуации, ни Бога, который скрыт где-то в абсолюте, далёком от земли и людских нужд. Остаётся лишь надежда, которую и вселяет название романа. Однако складывающаяся в нём картина мира разрушительна и непредсказуема.
Абсурдность истории и мира оборачивается абсурдностью человеческих мечтаний и чаяний. В особенности остро и трагично это чувствуют в романе люди с художническим даром, склонные к эстетическому переживанию действительности и отзывающиеся стократно на несправедливость бытия: писатель Николай Янин, художники Алмазов (Горыня), Юрий Рахманов, Степан Юдин, Иван Таранин (Пиросмани) и др. Поиски ими Бога сложны и непредсказуемы: ведь люди не знают, к какому именно Божеству прийти. Кто-то идёт к Мамоне, кто-то – к нынешнему аналогу языческих божеств, кто-то становится откровенным фетишистом, кто-то сектантом. Как и в эклектичной действительности, единства нет и во внутреннем мире заблудшего, потерявшего путь истинный человека.
Надеюсь, новый роман В. Личутина станет ещё одним убедительным доказательством того, что изящная словесность может быть дальновиднее и точнее в своих диагнозах историко-социальных сдвигов и перемен, нежели самое «умное» аналитическое изыскание. Со всей убедительностью подлинного мастера слова Личутин доказывает, что не кризисная экономика или политическая ситуация, а душа человеческая в её неизъяснимой сложности – кризисное состояние русской души, девальвация национальной личности – стали причиной цивилизационного слома на рубеже веков. Нации стало не хватать духовного воздуха. Страна превратилась во всеобщий пир во время чумы.
Таково кредо писателя, которое получает художественную индивидуализацию в его новом романе и раскрывается, проводя читателя через сциллы и харибды многоликой и изменчивой русской истории на сломе ХХ–ХХI столетий.
Тем не менее Личутин не был бы Личутиным, если бы ограничился лишь тёмной стороной этого мира. Ведь русский человек – идеалист по определению! Ему мало земной ограниченности, его стихия – полёты во сне и наяву. Вот и автор книги размышлений о русском народе «Душа неизъяснимая» утверждает – наперекор социальным расколам: «Русский человек живёт мечтою…»
Мечты о русском Золотом веке и идеальном мироустройстве сосредоточены у Личутина в исторических романах. В удостоенном Государственной премии Правительства РФ «Расколе» это – православная Святая Русь ещё до реформ ХVII века, расколовших единство нации: «Велика, завидно пространна и вельми обильна Святая Русь». Сильная держава во главе со стольным градом Москвой, не только объединившей вокруг себя множество земель, но и соединившей власть с народом. Смотрит царь Алексей Михайлович Романов на вверенный ему центр земли русской «с возбужденным от любви сердцем», думая: «Вот он, третий Рим, а четвёртому не бывать». В том же романе и в «Скитальцах» это Беловодье и Соловки – восставший из вод Китеж-град или Новый Иерусалим: прообраз идеального государства, созданного в монастырском пространстве. Воплощение мечты народной о земле и воле: «Земля благословенная, страна обетованная, к коей стремился народ, да не всякому далась она».
Казалось бы, в резко критических романах о современности у Личутина идеализм пропадает. Отнюдь! За флёром отрицаемой – героями ли, автором – реальности таится душа нежная, отзывчивая к добру и любви, грезящая извечной русской мечтою о прорыве к лучшему, светлому. В этом – суть устремлений героя «Миледи Ротман», Ивана Жукова, пытающегося переделать свою личность и весь мир в момент раскола советской цивилизации. Или героя-романтика из «Беглеца из рая», сделавшего отчаянную попытку возвести новую Россию, но отошедшего от политики в сферу науки и человечности. Или мятущегося художника Алмазова («В ожидании Бога»), чуть не гибнущего в перестроечном пожаре, но в результате обретающего мировую известность и семейное счастье.
Как свидетельствуют уже вышедшие тома собрания сочинений В. Личутина, литературное пространство у таких писателей становится не только хранилищем утраченных ценностей прошлого, но и горнилом, где вырабатываются образцы для подражания, модели поведения в настоящем и будущем. Русская идея самосохранения, выживания в трудных исторических обстоятельствах находит претворение в возвышении традиционных форм жизнедеятельности. Национальное прошлое в его канонических образцах предстает как мера подлинности: им поверяется направление развития страны и народа, правомерность так называемого прогресса.
Наиболее полно эта тенденция реализуется в энциклопедических сводах национальной культурной памяти. Пример тому – книга В. Личутина «Душа неизъяснимая», обращённая к константам национального бытия: всему тому, что даёт русскому человеку силы противиться разрушительному ходу времени.
«Как бы ни растекалась моя мысль, но все её ручьи и потоки хотелось бы встретить в одной реке: душевное здоровье, гармония, цельность, – утверждает автор «Души неизъяснимой». – Древо национального сознания − опыт, нравственность, слово. Если опыт − это бесчисленные корни, опутывающие землю, нравственность − морщиноватый, изъеденный улитками ствол, то слово − развесистая крона… Национальное сознание − синоним душевного здоровья: как и всякое здоровье, оно может поддаваться хворям, всяким болестям, но, как во всяком недуге, важно вовремя спохватиться. И тут нам в услужение пойдёт опыт предков, незатухающая родовая память…»
Раздумья В. Личутина, сосредотачиваясь на осмыслении исторического раскола русской нации и поиске путей к его преодолению, приводят к вере в существование двух Россий: России, погрузившейся во тьму самоотрицания, разрушения национальной личности и процветания неправедных, и – нутряной России, затаившей свою душу неизъяснимую в ожидании Возрождения. Вот и сейчас, как бывало во все века, «Россия погрузилась в себя, выстраивая душу. И ждёт русского героя».
В этом – исторический оптимизм писателя.
Алла Большакова

