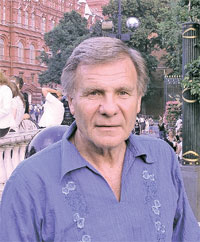К 70-летию завершения Московской битвы
 В оттепельном декабре минувшего года была отмечена славная дата – 70-летие начала контрнаступления под Москвой. Но Московская битва продолжалась и в снегах 1942 года.
В оттепельном декабре минувшего года была отмечена славная дата – 70-летие начала контрнаступления под Москвой. Но Московская битва продолжалась и в снегах 1942 года.
Взбешённый неудержимым наступлением советских войск под Москвой, Гитлер издал 3 января 1942 года приказ, в котором, в частности, говорилось: «Цепляться за каждый населённый пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего патрона, до последней гранаты – вот что требует от нас текущий момент». Фюреру вторил командир германской 23-й пехотной дивизии: «Позиция на реке Ламе должна защищаться до последнего человека. Вопрос поставлен о нашей жизни и смерти…» На живописных берегах Ламы под пушкинским Яропольцем остались огромные бетонные доты нашей линии обороны. Здесь насмерть стояли кремлёвские курсанты. Жаль, что Вечный огонь в этом посёлке погашен…
В эти зимние дни, когда полностью была освобождена от врага Московская область, можно вспомнить, какой вклад внесли в Победу жители всех городов и весей Московии. Например, в книге Владимира Смирнова «Мы – егорьевцы» написано: «Тысячи воинов-егорьевцев (как хорошо звучит, ведь святой Егорий – покровитель воинства!) проявили стойкость, мужество и героизм при защите родины на полях сражений. Более семи тысяч из них были награждены боевыми орденами и медалями, двенадцати воинам присвоено высокое звание Героев Советского Союза. И перечислены, конечно, все поимённо – от командира эскадрильи, а потом маршала авиации Ивана Борзова до танкиста Ивана Яснова, который одним из первых ворвался в Берлин. Великие Иваны – творцы Победы.
Но моё внимание больше привлекло имя Зинаиды Самсоновой – санинструктора, которая при форсировании Днепра вывезла с поля боя и переправила через Днепр 30 раненых бойцов. Погибла она в Полесье, под селом Холм, от пули снайпера. Её подруга по фронту, замечательная поэтесса Юлия Друнина написала знаменитое стихотворение «Зинка»:
Зинка нас повела в атаку,
Мы пробились по чёрной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
Напомню, что тогда часть Егорьевской земли входила в состав Рязанской области. «Мы хотели со славой жить!» – есть такая строчка в стихотворении… Не получилось ни у героини Зинки, убитой при освобождении Белоруссии, ни у самой Друниной, которая добровольно ушла из жизни в годы попрания её и общей Славы.
 * * *
* * *
Яростная Московская битва продолжалась и в феврале. В основном на просторах приграничных с Московской – Смоленской, Калужской, Калининской и Тульской – областей. В первый день февраля Государственный Комитет Обороны принял постановление о пополнении дивизий и бригад действующей армии личным составом. С февраля 1942 года было установлено отправление подготовленных контингентов на фронт в составе маршевых подразделений до 300 000 человек в месяц. В московском парке культуры и отдыха «Сокольники» начался многодневный городской профсоюзно-комсомольский кросс имени 24-й годовщины Красной армии. Он явился массовой школой по подготовке резерва бойцов-лыжников для наших наступающих войск. Уже 2 февраля возобновились занятия в высших учебных заведениях столицы: на четвёртом курсе восьми факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, в Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, в Институте народного хозяйства имени Г.В. Плеханова и в ряде других московских вузов. Но многие студенты ушли добровольцами на фронт.
Армии Западного фронта под командованием Г.К. Жукова 8 февраля вели наступательные бои на всём фронте. На его правом крыле противник удерживал гжатский рубеж. Именно здесь в один календарный день с дуэлью Пушкина – 8 февраля, но только 1942 года, в атаке пал поэт Николай Майоров. Могила его неизвестна. Фронтовое поколение в русской, советской поэзии – особая статья и подлинная гордость её. Но есть в этом поколении небольшой, но бессмертный отряд тех, кто не вернулся, не дописал своих книг. Именно Николай Майоров сказал о своих сверстниках:
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы…
* * *
Литературовед и историк Вадим Кожинов писал: «Во множестве зарубежных сочинений утверждается, что германские войска и остановил, и погнал назад «генерал Зима». Разумеется, нельзя отрицать, что подмосковные морозы наносили немалый ущерб врагу, рассчитывавшему на быструю – до наступления сильных морозов – победу. Однако столь же ясно, что «генерал Зима» в то же время подгонял наступавшую германскую армию. Командовавший походом на Москву генерал-фельдмаршал фон Бок совершенно верно сформулировал проблему: «…в военном и психологическом отношениях необходимо взять Москву… хуже, если мы останемся лежать в снегу на открытой местности в 50 км от манящей цели». Поэтому версия, согласно которой именно «русские морозы» сломили волю германских войск, остановили их у самых ворот Москвы, а затем погнали на Запад, – заведомо тенденциозная версия. Она, в частности, опровергается дальнейшим ходом событий. Германская армия, отброшенная от Москвы в декабре – начале января до линии Ржев – Гжатск – Вязьма, остановившись на ней, самым убедительным образом доказала (и в эту, и в следующую зиму) свою способность к мощному сопротивлению даже и в самые морозные месяцы: только 2 марта 1943 года она оставила Ржев».
Битва за Москву явила не только военное и организационное чудо, но и показала всему миру, что значила для русского, советского человека дорогая столица. Политруки читали высокое слово Алексея Толстого, стихи Пушкина и Лермонтова. Одним из выдающихся героев битвы под Москвой был казах из рода воинов Баурджан Момыш-улы, сподвижник славного генерала Ивана Васильевича Панфилова. Уже в 1943 году подвиги командира батальона Момыш-улы были воссозданы в получившей тогда широчайшую известность повести Александра Бека «Волоколамское шоссе», а впоследствии сам герой написал книгу «За нами Москва. Записки офицера» (1959). Я встречался с аксакалом в Алма-Ате, в высоком доме над куполами турецких бань. Он рассказывал мне: «Если я стал главным героем повести Бека, то подумал: а почему самому герою не написать о себе, о своих товарищах, о дорогом генерале? Он говорил мне перед заданием: «Иди, сынок. Стой насмерть, как велит приказ… Но добавлял хитровато: а жду я тебя с батальоном живым вот на этом запасном рубеже». Панфилов знал, что Момыш-улы мог бы принять смерть, но кто защитит Москву? В книге герой вспоминает, как в 20-х числах ноября 1941 года комиссар 73-го полка 316-й стрелковой дивизии (позднее – 8-й гвардейской имени И.В. Панфилова), входившей в 16-ю армию, П.В. Логвиненко объясняет только что вышедшим из окружения бойцам батальона Момыш-улы смысл сражения за Москву: «Не скрою от вас, хлопцы: мы считали вас погибшими. Но вы, товарищи, стоите здесь здоровёхоньки. Как наши деды говорили, слава Богу… Нам очень туго и трудно приходится… До Москвы осталось совсем и совсем недалеко. Неужели мы, товарищи, позволим, чтобы немец, как это делали французы в 1812 году, мочился у стен древнего Кремля?!» Это было доходчиво!
Выдающийся философ, прошедший лагерь и ссылку, тайный монах Алексей Лосев написал в трагическом 1941 году: «То, что рождает человека, и то, что поглощает его после его смерти, есть единственная опора и смысл его существования. Было время, когда этого человека не было; и будет время, когда его не станет. Он промелькнул в жизни, и часто даже слишком незаметно. В чём же смысл его жизни и смерти? Только в том общем, в чём он был каким-то переходным пунктом. Если бессмысленно и это общее, бессмысленна и вся жизнь человека. И если осмысленно оно, это общее, осмысленна и жизнь человека. Но общее не может не быть для нас осмысленно. Оно – наша Родина».
Мой старший брат, сталинский сокол, стрелок-радист – Герой Советского Союза Николай Бобров, по воспоминаниям однополчан, передал последние слова в эфир, идя на огненный таран под Ленинградом: «За Родину!»