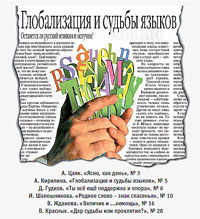
Весь прошлый год в «ЛГ» шла дискуссия о судьбе и состоянии современного русского языка, да и в нынешнем поток писем не иссякает. Большинство читателей считают, что, несмотря на высокий коммуникативный статус русского, волноваться всё же необходимо. Лингвистический патриотизм проснулся и в депутатах Госдумы, принявших в середине марта закон, предусматривающий наложение штрафа за использование в СМИ, в том числе и в интернет-изданиях, нецензурной брани. 8 апреля документ подписал и президент, и теперь нормы приличия, которые когда-то соблюдались и без угрозы наказания, введены в ранг закона. Но достаточно ли этого для сохранения богатства русского языка? Судя по прошедшей в газете дискуссии, это только вершина айсберга.
Как это обычно бывает при обсуждении животрепещущей темы, участники дискуссии сосредоточились в основном на драматических моментах жизни языка. Помимо почти единодушного признания глобализационной опасности, названы ещё несколько факторов риска. Это негативное воздействие на язык сегодняшнего состояния общества и СМИ, слабая поддержка его статуса в России и за рубежом, недостаток внимания к научному осмыслению происходящих в нём процессов. Основной смысл высказанных в обсуждении мнений можно выразить словами моего коллеги Дмитрия Борисовича Гудкова («Ты всё ещё поддержка и опора», «ЛГ», № 6): «Проблемы русского языка лежат, конечно, не в нём, а во внеязыковой действительности, самым печальным образом влияющей на речевую практику носителей этого языка».
В то же время некоторые из наших «статусных» лингвистов и деятелей культуры, пообещавшие высказаться, своего слова не сдержали. И это тоже признак современной ситуации, проявившийся во многих странах: главным защитником языка становятся самоорганизованные силы – общественность и отдельные энтузиасты.
Ещё одно обстоятельство, которого дискуссия лишь коснулась, – это негативное отношение к родному языку и культуре. Ещё в 1996 г. – и тоже в «ЛГ» – Ю.В. Рождественский с горечью заметил: «Интеллигентные носители языка не любят родной язык». К большому сожалению, приходится констатировать, что эти слова актуальны и сегодня. Более того, ситуация в чём-то даже острее – появились тексты (не только публицистические, но даже и научные), в которых авторы, например Игорь Яковенко, весьма агрессивно выступают против русской культуры и языка, провозглашая их «неэффективность», «тупиковость». Заявляя о вредоносности русской культуры, этот автор не стесняется и выражения «гетто русского языка» и предлагает это «гетто» разрушить – сделать обязательным обучение за рубежом; не выдавать диплом о высшем образовании без свободного владения английским, ввести как обязательную норму преподавание большого количества предметов на английском языке; создать англоязычный канал и т.д. В тексте И.Г. Яковенко содержится даже высказывание, очень и очень похожее на призыв физически искоренять носителей русской культуры: «Следование изживаемым ценностям должно быть связано со смертельной опасностью».
Подобного рода неолиберальные идеи сегодня ширятся. Параллельно же разворачивается международная критика отечественного гуманитарного знания. Российских лингвистов обвиняют, например, в «лингвистическом нарциссизме». В 80-е годы профессор Бохумского университета Гельмут Яхнов обрушился на стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Русский язык», усмотрев в нём стремление к национальному превосходству и одновременно комплекс неполноценности носителей русского языка. Тогда восприятие немецкого коллеги казалось просто отзвуком холодной войны. Однако в начале третьего тысячелетия работы такого рода стали множиться. Нередко авторами подобных текстов становятся выходцы из России – это, похоже, инициация при вступлении в сообщество западных гуманитариев. Так, например, А. Павлова и М. Безродный вновь называют произведение Тургенева классикой лингвонарциссистского жанра, а швейцарский лингвист Патрик Серио даже считает, что признание связи между языком и культурой ведёт к фашизму.
Список подобных примеров можно продолжить. И всё это неслучайно – ожесточилась давняя полемика универсалистов (глобалистов) и лингводетерминистов (сторонников взаимосвязи языка, мышления и культуры). Спор охватил не только проблему языка, но и вопрос о науке и научности. По этой и ряду других причин, о которых – ниже, трудно согласиться с уважаемым Михаилом Макаровым («Заноза не в английском», «ЛГ», № 16), который считает, что страсти нагнетаются «в контексте традиционно мифологизируемого в российском общественно-политическом дискурсе противостояния Запада и Востока» и что глобальная экспансия английского имеет малый удельный вес в России. Более значительную угрозу русскому языку Макаров видит в состоянии российского общества – потере богатого культурного наследия, высокого уровня грамотности, эффективной системы образования, привычки к чтению. Замечу, что всё это также не в последнюю очередь связано с глобализацией, в том числе – с превращением образования в продукцию глобальных рынков. Новый закон «Об образовании» – тому подтверждение. Да и удельный вес глобализации в России отнюдь не мал. Например, официальный текст договора о вступлении России в ВТО не существует на русском языке...
Дело не столько в английском, сколько в тех силах и процессах, выразителем которых он становится. Чуткие к языковым нюансам писатели уже отреагировали.
Нельзя не заметить, что новая философия языка направлена на дезавуирование не всех языков, а лишь тех, которые имеют высокий коммуникативный статус и нередко представляют сильные государства. Так, трудно встретить научные рассуждения об искусствености, например, казахского или чеченского, хотя и для них создавалась письменность, проводилось нормирование, разрабатывался литературный язык – всё то, что неолиберальная наука считает признаками неестественности. На фоне заботы о малых, исчезающих языках (что, разумеется, можно только приветствовать) происходит идеологическое оправдание упадка «больших языков». Не могу поэтому согласиться с М. Макаровым и в том, что усиление позиций малых языков в Москве спасёт ситуацию.
В различных документах у малых языков не меньше, а то и побольше прав. Так, предложенный недавно рабочей группой под руководством Е.А. Ямбурга проект профессионального педагогического стандарта содержит – что прекрасно – профиль «преподаватель русского языка». В число требований к учителю входят: владение литературной нормой, обязательное проявление позитивного отношения к местным языковым явлениям, к родным языкам учащихся, представленных в классе. Но почему-то нет требования проявлять позитивное отношение к русскому языку как государственному, национальному богатству, достоянию, базовой части культуры нашей страны.
Ещё пример: СМИ буквально пестрят сообщениями о том, что в роддомах крупных городов весьма востребованы переводчики с киргизского, таджикского и других языков бывших азиатских советских республик. О том, что целый ряд российских или бывших советских республик превращён в мононациональные образования, даже не говорю. И там происходит сокращение русского языка – и по причине выдавливания русского населения, и по иным политическим мотивам. Так, в декабре прошлого года в Казахстане объявили о планируемом переходе на латинский алфавит. Не так давно в «ЛГ» писатель Г. Садулаев осторожно высказался о пользе перехода на латиницу чеченского языка. Молдавия давно уже перешла. И это пусть непрямой, но удар по языку и по единому социально-культурному пространству.
Высокий коммуникативный статус не спасёт сегодня русский язык без постоянных усилий каждого из нас. Трезвый взгляд на вещи не позволяет говорить о возвращении ему всех его функций в полной мере. Так, не думаю, что научная коммуникация в обозримой перспективе перейдёт с английского на национальный. Тем более что молодые учёные настроены на англоязычную научную коммуникацию. Да и политика Минобрнауки тому способствует.
И всё же нельзя опускать руки. Защита языка и забота о нём, о его социальном престиже – главные факторы его сохранения. В лингвистике есть понятие «одноаульные языки» – это бесписьменные языки с крошечным числом носителей, которые тем не менее живут и не исчезают столетиями. Причина одна – они представляют собой ценность для говорящих на них людей. А проще, они – любимы.
Что же мы можем сделать? Нельзя оставлять без внимания работы – научные ли, публицистические ли, в которых преподносится отрицательный взгляд на русскую культуру и русский язык или исключительно им приписываются отрицательные свойства, присущие на деле всем. Требуется усилить внимание к текущим социолингвистическим процессам в России, более энергично публиковать и искать новые, современные аргументы в пользу взаимосвязи языка и культуры, ибо этого требует активизация дискуссии с универсалистами (глобалистами). Можно обратиться к опыту других стран. В Германии, например, наряду со «словом года», отражающим наиболее актуальные процессы в обществе, фиксируют и самое «неудачное слово года». Цель – пропагандировать гуманистическое использование языка. Негуманные слова и выражения должны стать неприемлемыми и уйти из употребления. «Неудачные слова года», таким образом, стоят на защите нравственных оснований употребления языка. Нам тоже есть чем заняться в этой сфере – хотя бы прервать цепочку слов и выражений, инструментализирующих человека, – «человеческие ресурсы», «человечество имеет срок годности» и т.п.
Даже минимальная индивидуальная деятельность по защите языка приносит плоды. Так, анонимный опрос студентов МГПУ после прочтения им курса социолингвистики, в котором был сделан акцент на необходимость защищать свой язык, дал много откликов примерно следующего содержания: «курс научил меня быть внимательнее к языковому ландшафту в городе, бережно относиться к своему языку»; «мне бы хотелось изучать социолингвистику дальше и внести свой вклад в сохранение и развитие русского языка»; «благодаря… лекциям во мне проснулся некий «лингвистический патриотизм», то есть проснулось желание бороться за свой язык».
Разумеется, и участники дискуссии в «ЛГ» не ограничились лишь перечислением бед и напастей, а предложили целый комплекс мер. Но для их системной разработки, расширения контактов необходима площадка. Ею могла бы стать «Литературная газета». Потому я предложила бы создать при газете постоянно действующее сообщество друзей и защитников русского языка и открыть специальную рубрику для освещения многогранных отношений языка, культуры и общества. Из такого коллектива могли бы в дальнейшем выкристаллизоваться сетевое сообщество и другие формы организации любящих русский язык людей, патриотов Отечества.
